Медицина
I
Медицина
Медицина — система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни людей, предупреждение и лечение болезней человека. Для выполнения этих задач М. изучает строение и процессы жизнедеятельности организма человека в норме и при патологии; факторы природной и социальной среды в аспекте их положительного или отрицательного влияния на состояние здоровья людей; собственно болезни человека (их причины, механизмы возникновения и развития, признаки), а также возможности использования различных физических, химических, биологических факторов и технических устройств для предупреждения, обнаружения и лечения заболеваний. На этой основе разрабатываются рекомендации по наиболее рациональному образу жизни, режиму труда и отдыха, питанию; меры, обеспечивающие оптимальные гигиенические условия жизни, безопасные условия труда, рациональное воспитание, а также методы выявления, средства профилактики и лечения различных болезней.
Таким образом, круг интересов М. охватывает все стороны жизни человека, что фактически превращает современную М. в систему научных знаний о здоровье и болезнях человека, о значимых для здоровья условиях его индивидуальной и общественной жизни, в которой биологическое и социальное выступают в диалектическом единстве. Социальные факторы влияют на уровень здоровья и физического развития населения, нередко играют роль пускового механизма (обязательного или дополнительного условия) возникновения и развития того или иного патологического процесса. Биологические последствия воздействия неблагоприятных факторов социальной среды во многом определяются состоянием организма: в одних случаях организм средствами биологической защиты полностью нейтрализует или значительно ослабляет их патогенное действие, в других — неблагоприятные социальные условия создают возможность для реализации имеющейся предрасположенности к болезни или проявлений функциональной неполноценности организма. Благоприятные социальные условия, положительно влияя на состояние здоровья отдельных людей и населения в целом, способствуют увеличению продолжительности жизни и активной трудоспособности, снижению заболеваемости и смертности, предупреждению возникновения и даже ликвидации опасных заболеваний.
Медицинская деятельность, направленная на предупреждение болезней, спасение жизни человека и убавление его от страданий или облегчение их, является непосредственным воплощением гуманистических идей: она призвана служить здоровью и счастью людей. Тысячелетиями вырабатывались гуманистические принципы М., согласно которым лица медицинской профессии не имеют права причинять вред здоровью человека, обрекать больного на гибель, использовать его бедственное положение в целях обогащения.
Общеизвестно, что характер и содержание медицинских представлений и медико-гигиенической деятельности зависят от уровня экономического развития общества, господствующего мировоззрения, состояния культуры, естествознания и техники. Уровень экономического развития общества определяет и основной тип патологии. Так, для древних цивилизаций и феодального общества характерно преобладание инфекционных болезней, распространение которых нередко принимало) форму эпидемий и пандемий. Врачи древности, эпохи Возрождения и Нового времени уделяли много внимания изучению клиники, причин возникновения и распространения эпидемических болезней, поискам средств их лечения, разработке противоэпидемических мероприятий. Однако лишь с развитием торговли и капиталистического производства, ростом экономического потенциала общества и заинтересованности в сохранении рабочей силы возникли реальные возможности для осуществления систематических противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. В результате в экономически развитых странах ведущее место в структуре заболеваемости и смертности с первой четверти 20 в. занимают сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, травмы, болезни органов дыхания и нервно-психические расстройства, тогда как заболеваемость инфекционными и паразитарными болезнями резко снизилась.
С развитием промышленности стал распространяться новый тип патологии — профессиональные болезни, связанные с неблагоприятным воздействием на организм различных физических и химических факторов промышленного производства. Начиная с 17 в. исследования в области профессиональной патологии и гигиены труда приняли систематический характер. Одной из ведущих проблем медицины 20 в. стали аллергические болезни, распространение которых связывают с широким внедрением в быт и производство большого количества разнообразных химических веществ и соединений, особенно искусственного происхождения, а также с загрязнением окружающей среды промышленными выбросами. Естественно, что тематика научных исследований и направленность практической медико-гигиенической деятельности в различных странах мира определяются прежде всего преимущественным типом патологии. Так, усилия медицинской науки и национальных служб здравоохранения развитых стран направлены, в первую очередь, на решение проблем кардиологии, онкологии, неврологии, психиатрии, охраны окружающей среды и связанных с ними теоретических, клинических, гигиенических и организационных вопросов М., а службы здравоохранения развивающихся стран сосредоточивают внимание на проблемах борьбы с инфекционными и паразитарными болезнями.
Экономический строй общества воздействует на состояние медицинской науки и практики как непосредственно, так и через господствующую идеологию и культуру. Господствующее мировоззрение формирует и определяет содержание естественнонаучных и медицинских представлений, соответствующих им форм и приемов практической медицинской деятельности. Так, наивным фантастическим представлениям древнего человека, наделявшего сверхъестественными свойствами различные неодушевленные предметы (фетишизм), соответствовала вера в их влияние на здоровье, в способность вызвать болезнь и исцелить от нее. Пережитки фетишизма (вера в амулеты, талисманы) долго сохранялись как атрибут более сложных религиозных представлений. Целительным свойствам таких предметов, «показаниям» к их применению, способности амулетов и талисманов охранять своих владельцев от болезней врачи древности и средневековья посвятили многочисленные трактаты. На стадии доклассового общества появилась вера в духов и демонов, влиянию которых на человека или вселению в него приписывалось возникновение болезни. На основе этих представлений возникла так называемая демонологическая медицина, разработавшая систему обрядовых действий, направленных на изгнание «духов болезни», а также систему мистических взглядов на причины и условия их вселения. Демонологические представления о причинах возникновения болезней в форме «гнева богов», «наказания за грехи» или «дьявольского наваждения» сохранялись в М. при идеологическом господстве всех религий, а молитва, пост и покаяние вплоть до 18 в. даже в развитых странах считались необходимым дополнением к рациональным врачебным назначениям.
Идеология политеизма, рассматривавшая пантеон богов как целостную систему, и идея всеобщей одушевленности материи (гилозоизм) послужили основой для натурфилософских и космогонических теорий, исходящих из представлений о единстве мира, возникшего и существующего в результате взаимодействия ограниченного числа противоборствующих стихий или элементов. На основании этих представлений развилось гуморальное учение о четырех соках организма, которые находятся в постоянном движении, то борясь, то поддерживая друг друга, и от характера смешения которых зависят состояния здоровья и болезни. Стихийный материализм и диалектические идеи, содержащиеся в космогонических теориях древнегреческих философов, определили материалистическую направленность школы Гиппократа, его представления о целостности организма, учение об этиологии, основанное на признании материальной причины болезни, использование исключительно рациональных средств и приемов в терапии и т.п.
Идеология феодализма (монотеистические религии) с присущим ей догматизмом, верой в бессмертие души, замкнутой концентрической картиной мира послужила основой для схоластической медицины средневековья с ее пренебрежительным отношением к чувственному познанию, заменой опыта приверженностью традициям и книжным авторитетам, склонностью к формальной систематизации, отвлеченному теоретизированию, а также для возрождения и развития астральных и магических представлений. Благодаря этому стало возможным превращение учения Галена, хотя и сыгравшего важную роль в развитии М., но методологически непоследовательного, в галенизм — систему догматических анатомо-физиологических положений, господствовавших в теоретической М. на протяжении тысячелетия.
Потребности развивающегося капиталистического производства обусловили возникновение опытного знания. Чисто религиозное представление сменяется идеологией механистического материализма, на базе которой развиваются механистические представления о жизнедеятельности и патологии человека, наиболее ярко проявившиеся в физиологии Р. Декарта, деятельности ятромехаников, концепции Ж. Ламетри о «человеке-машине». Одновременно как результат неудовлетворенности ограниченностью и метафизичностью механицизма получают развитие дуалистические медицинские теории: учение об археях И. Ван-Гельмонта и других ятрохимиков, анимизм Г. Шталя, системы Ф. Гоффманна, У. Куплена, Дж. Броуна и другие идеалистические представления, наиболее влиятельным из которых в 18 в. стал витализм.
Естествознание — основа медицины. Естественные науки вооружили М. экспериментальными и теоретическими данными о закономерностях развития процессов, происходящих в природе и в организме человека, а также объективными методами исследования. Так, учение об электричестве послужило основой для возникновения и развития электрофизиологии, разработки и внедрения существующих методов электродиагностики, электролечения. Достижения гидростатики, гидродинамики и реологии создали условия для изучения процессов гемодинамики и микроциркуляции, позволили получить важные для практической М. сведения о механизмах возникновения и возможностях диагностики различных гемодинамических нарушений. Результаты исследований в области оптики послужили основой создания физиологической оптики, являющейся, в свою очередь, теоретической базой для современной офтальмологии. В результате открытия и изучения различных видов ионизирующего излучения М. обогатилась методами лучевой диагностики и терапии. На основе достижений генетики, биологической химии и молекулярной биологии выявлены дефекты в молекулах белков и аминокислот, лежащие в основе возникновения ряда наследственных болезней.
По мере расширения и углубления знаний об интимных механизмах жизнедеятельности, процессах возникновения и развития патологических изменений в организме все большее значение для медико-биологических исследований, диагностики и лечения приобретают технические средства. Общеизвестна роль микроскопии в возникновении и развитии гистологии, патологической анатомии, бактериологии и других основополагающих медико-биологических наук. Усовершенствование оптических систем микроскопов, микроскопической техники, особенно создание электронного микроскопа, позволили изучить строение биологических объектов на молекулярном и субмолекулярном уровнях, наблюдать нарушения, обусловливающие возникновение и развитие патологических процессов.
В современных условиях научно-техническая революция оказывает огромное преобразующее влияние на М. Достижения техники чрезвычайно расширили возможности исследования организма здорового и больного человека, привели к созданию принципиально новых путей и методов диагностики и лечения. На основе использования электроники разработаны и применяются новые методы регистрации и управления функциями органов и систем (например, электростимуляция позволяет управлять ритмом больного сердца). Аппараты искусственной почки, искусственного дыхания, искусственного кровообращения выполняют функции соответствующих органов и систем, например во время операций на сердце или при острой почечной недостаточности. Активно развивается медицинская кибернетика. Особое значение приобрела проблема программирования дифференциальных признаков болезней и использования ЭВМ для постановки диагноза. Применение ультразвука обогатило М. новыми методами диагностики состояния плода, эхоэнцефало- и эхокардиографии, хирургического лечения поражений костной системы. Технический прогресс сопровождается созданием новых отраслей медицины. Так, полеты человека на космических кораблях привели к развитию космической М. как самостоятельного научно-практического комплекса.
По мере накопления знаний о строении, функциях и патологии отдельных органов и систем, о диагностических признаках, способах профилактики и лечения отдельных болезней происходил процесс дифференциации М., выделения самостоятельных разделов и медицинских специальностей. Неизбежность этого процесса определяется стремительным ростом объема знаний как в области фундаментальных медико-биологических наук (морфология, физиология, биохимия, генетика и др.), так и в сфере диагностики и лечения заболеваний, что требует от врача глубокого изучения предмета своей специальности и овладения многими техническими приемами диагностики и лечения. В этом отношении дифференциация М. сыграла и продолжает играть положительную роль, способствуя более глубокому и детальному изучению отдельных проблем М. Однако продолжающееся расчленение когда-то единой М. имеет и свои отрицательные стороны. Одна из них — это известная разобщенность, фрагментарность общетеоретических представлений, ослабление внимания к принципиальным вопросам общей патологии и другим проблемам, которые необходимо разрабатывать не столько в прикладном, сколько в принципиальном, стратегическом плане. Все более узкая специализация и технизация М., отрыв отдельных медицинских специальностей друг от друга выдвигают на передний план проблему сохранения единства медицины, которая в современных условиях решается с помощью медицинского образования, программно-целевого объединения научных исследований, а также массового выпуска научно-справочных и энциклопедических трудов общемедицинского профиля.
Вполне удовлетворительной классификации медицинских знаний до настоящего времени не создано. Согласно наиболее принятой из них, М. как область научных знаний условно подразделяют на три группы: медико-биологические дисциплины, клинические дисциплины; гигиена, микробиология, эпидемиология и другие дисциплины преимущественно медико-социального и гигиенического характера.
Медико-биологические дисциплины выходят за рамки собственно М. и в основном являются частью соответствующих биологических наук. К ним относятся анатомия человека, гистология; цитология, изучающие нормальное строение тела человека (на любом уровне — от организменного до молекулярного); физиология, которая исследует функции здорового организма, патология, изучающая закономерности возникновения, развития и течения болезненных процессов, которая в свою очередь, делится на патологическую анатомию и патологическую физиологию. Химические и физические стороны физиологических и патологических процессов — предмет изучения биохимии и биофизики. Фармакология и токсикология исследуют влияние на организм лекарственных средств и различных токсических веществ. В эту же группу входят медицинская микробиология (бактериология и вирусология) и паразитология. изучающие возбудителей инфекционных болезней: медицинская генетика, которая исследует явления наследственности и изменчивости в их связи с патологией человека.
Группа клинических дисциплин, изучающих болезни человека, методы их распознавания, лечения и предупреждения, особенно обширна. Она включает терапию (внутренняя медицина, внутренние болезни), разделами которой являются кардиология, ревматология, пульмонология, нефрология, гастроэнтерология, гематология; инфекционные болезни, клиническую эндокринологию, гериатрию, педиатрию, невропатологию, психиатрию, дерматологию и венерологию, курортологию, физиотерапию и лечебную физическую культуру, медицинскую радиологию, рентгенологию, стоматологию, акушерство и гинекологию, хирургию, травматологию и ортопедию, анестезиологию и реаниматологию, онкологию, урологию, офтальмологию и т.д.
Группа медико-социальных и гигиенических дисциплин, изучающих воздействие окружающей среды на организм и меры улучшения здоровья населения, включает социальную гигиену и организацию здравоохранения, общую гигиену, гигиену детей и подростков, гигиену питания, труда, коммунальную, радиационную гигиену, эпидемиологию, медицинскую географию и т.д.
Условность приведенной выше классификации медицинских дисциплин подчеркивается следующими моментами: социальные аспекты свойственны любой медицинской дисциплине; традиционный для медико-биологических дисциплин экспериментальный метод исследования давно вошел в практику клинических и гигиенических дисциплин; микробиология, отнесенная к третьей группе, тесно связана с эпидемиологией, служит научной основой многих профилактических мероприятий и с равным правом может быть включена в группу медико-биологических дисциплин. Не укладываются в рамки указанных групп такие научно-практические комплексы, как поенная медицина, авиационная и космическая медицина, спортивная медицина и др.
Являясь одной из древнейших областей общественной практики. М. прошла долгий путь развития, накапливая и обобщая практический опыт, аккумулируя и используя достижения естественнонаучной и общественной мысли. Каждый этап развития М. характеризуется новыми теоретическими представлениями, клиническими наблюдениями, практическими навыками, а также расширением арсенала средств диагностики, предупреждения и лечения болезней. Даже в средние века в период господства догматических представлений об окружающем мире, строении и функциях человека, когда развитие естественнонаучной мысли преследовалось, продолжалось накопление М. позитивного опыта (в области хирургии, инфекционной патологии, в проведении противоэпидемических мер, организации больничного дела). Т.о., история медицины — процесс непрерывного и прогрессивного развития и накопления знаний о строении и функциях человеческого организма. болезнях человека и практических навыков по их обнаружению, предупреждению и лечению. Этот процесс продолжается и в наше время. Находясь в зависимости от уровня культуры, М. в течение тысячелетий развивалась преимущественно в так называемых очагах цивилизации, причем упадок или гибель той или иной цивилизации не означал утраты медицинских приобретений и опыта. Преемственность составляет одну из важнейших черт исторического развития медицины. В новых исторических условиях и на основе новых культурных, национальных и религиозно-философских традиций опыт прошлого пересматривался и дополнялся. И в этом отношении история М. свидетельствует о том, что все народы мира внесли в сокровищницу медицинских знаний определенный вклад, способствовали построению величественною здания современной медицины.
Возникновение медицины и ее развитие в первобытном обществе
Эпоха, условно называемая первобытнообщинным строем, — наиболее продолжительный период в истории развития человеческого общества. Именно в этот период происходило формирование человеческого коллектива и человека как биологического вида, становление производства и производственных отношений, общественного бытия и общественного сознания, зародились нравственные и этические понятия, первые примитивные представления об окружающем мире, начался процесс накопления и передачи опыта, положивший начало ремеслам, искусствам, образованию и науке. Согласно современным представлениям в выделении человека из мира животных и возникновении человеческого общества на месте зоологического объединения ведущую роль сыграл труд. При этом человеческое общество возникло не сразу с изготовлением первых орудий труда. Этому предшествовал длительный период, в течение которого одновременно и параллельно проходился формирование человека (антропогенез) и человеческого общества (социогенез). Период формирования человеческого общества связан не только с совершенствованием орудийной деятельности, но и с преодолением, обузданием зоологического индивидуализма. Последнее имело решающее значение для сплочения коллективов «формирующихся людей», было движущим механизмом социогенеза, обеспечившим коллективный труд и распределение. Восстановление последовательности, внутренней логики и конкретных условий возникновения и развития человека и человеческого общества (антропосоциогенез) стало возможным благодаря обобщению огромного фактического материала, включающего данные таких наук, как археология, антропология, этнография, эволюционная морфология, генетика, зоология, зоопсихология, экология, история первобытного общества, фольклористика, политическая экономия, психология, языковедение и др.
Современные данные об этапах развития первобытного общества позволяют уточнить наши представления о времени и источниках возникновения медицины, а также о характере медицинской деятельности в самые ранние периоды истории человечества. Отдельные факты, явления или представления медико-гигиенического характера реконструируются на основе археологических находок орудий труда, предметов бытового обихода, остатков жилищ, поселений, погребений, предметов изобразительного искусства (статуэтки, изображения животных и людей, амулеты, идолы и др.). Источниками сведений медико-гигиенического характера могут служить памятники устного народного творчества (мифы, предания, былины, сказания, песни, поговорки, пословицы и др.), пережиточные данные народной М. (заговоры, заклинания, магические и шаманские обряды), материалы палеоботаники и палеозоологии, древнейшие документы письменности, данные этнографии — обряды и элементы медико-гигиенической деятельности народов, находившихся в недавнем прошлом на этапе доклассового развития. Вместе с тем сведения по ряду вопросов являются неполными, зачастую противоречивыми и допускают различные толкования. Поэтому в современных представлениях о первобытном этапе истории человечества, в частности о характере медико-гигиенической деятельности первобытного человека, наряду с твердо установленными положениями немало спорных и гипотетических.
Самый ранний период развития человечества был временем становления человека и общества. «Формирующиеся люди» жили в «формирующемся обществе», которое большинство советских ученых называют первобытным человеческим стадом или приобщиной. Единой датировки возникновения праобщины нет: если считать людьми презинджантропов (Homo habilis), она возникла свыше 2 млн. лет назад, если архантропов — около 1 млн. лет назад. Существует точка зрения, что праобщина возникла около 1 млн. лет назад на африканском континенте, а проникновение питекантропов в Европу произошло 900—700 тыс. лет назад.
В развитии «формирующихся людей» выделяют стадию архантропов (питекантропы, синантропы) и стадию людей неандертальского типа (палеоанропы), которые обитали в мустьерское время (100—35 тыс. лет назад). Примерно 40—35 тыс. лет назад завершились превращение палеоантропов в людей современного типа (неоантропов) и трансформация первобытного человеческого стада в родовую общину.
В первобытной истории принято выделять два переломных момента. Первый и наиболее важный из них отмечен началом орудийной и трудовой деятельности и переходом от стадии животных предшественников человека к стадии «формирующихся людей», второй произошел на грани раннего и позднего палеолита (древнекаменного века) и обусловил смену неандертальца человеком современного типа. Первый скачок ознаменовал начало антропосоциогена, второй — его завершение и установление господства социальных отношений.
Ареал расселения первых людей (архантропов) был относительно невелик и ограничивался районами с теплым климатом (Африка, Южная и Восточная Азия, Юго-Западная Европа). Условия жизни «формирующихся людей» были чрезвычайно суровыми, препятствовали физическому развитию, порождали разнообразные болезни, сокращали продолжительность жизни. Обнаруженные антропологами костные останки людей различных эпох несут следы туберкулеза, опухолей, травм, анкилозов, остеомиелита, рахита, сифилиса. Не подтверждаются мифологические данные о физическом могуществе и долголетии первых людей: продолжительность жизни первобытного человека обычно не превышала 20 лет; около 100 тыс. лет назад только один из ста доживал до 40 лет.
По образному выражению советского ученого Ю.И. Семенова, «первобытное человеческое стадо уже не было зоологическим объединением, однако оно еще не было и подлинно социальным организмом. Оно представляло собой организм социально-биологический...» С его возникновением начались обуздание животных инстинктов, борьба социального и биологического, становление социальных отношений, прежде всего первобытного коллективизма. Являясь коллективом более сплоченным, чем предшествовавшее ему стадо предлюдей, первобытное человеческое стадо, особенно в начальный период своего существования, сохраняло многие пережитки зоологического объединения. Так, неограниченный промискуитет (беспорядочные половые связи), хотя и был шагом вперед по сравнению с гаремными семьями обезьян и предлюдей, все же являлся источником постоянно возникающих на почве полового соперничества конфликтов, нарушавших производственную деятельность и нередко приводивших к уменьшению числа трудоспособных членов коллектива. Данные палеоантропологии свидетельствуют, что в стадах архантропов и даже ранних палеоантропов был распространен каннибализм. Упорядочение половых отношений было, по-видимому, одной из важных и в то же время наиболее сложных форм обуздания зоологического индивидуализма и укрепления сплоченности праобщины. Причем с введением половых ограничений связывают возникновение первых нравственных представлений.
В процессе обуздания полового инстинкта выработались многие специфические для человека сексуальные установки, к числу которых, в первую очередь, относится запрет половых сношений между родственниками. Большинство ученых отвергают точку зрения, что непосредственной причиной этого запрета было осознанное или неосознанное стремление предотвратить вредное влияние инбридинга. Однако это нисколько не уменьшает значения последствий такого запрета, контролируемого сначала внутри рода, затем религией, законодательством, нравственностью и лишь сравнительно недавно обоснованного генетикой. Подавление полового инстинкта проложило дорогу для ограничения и обуздания других проявлений зоологического индивидуализма. В частности, считается установленным, что вслед за половыми были введены пищевые ограничения, определившие относительно равномерное распределение пищевых продуктов между всеми членами стада, затем были запрещены убийства членов стада и каннибализм.
Вопрос о времени возникновения М. нельзя считать окончательно решенным. Не подлежит сомнению, что у первобытного человека существовала потребность в помощи при болезнях и травмах, однако нет достаточных оснований считать, что на первых порах существования первобытного человеческого стада к ее удовлетворению подходили сознательно. В помощи при болезнях и травмах нуждались и животные, и предлюди. Более того, у животных имеются определенные приемы самопомощи, предполагающие совершение целенаправленных преднамеренных действий (зализывание ран, отыскивание и использование различных лекарственных растений и т.д.). Такими приемами, по-видимому, владели и предлюди. Но практика животных и предлюдей — лишь борьба за выживание и самосохранение, основанная главным образом на действиях, заложенных в генетической памяти. Именно такой инстинктивный, а точнее генетически обусловленный, характер носили приемы самопомощи у животных и предлюдей. Что же касается медико-гигиенической деятельности человека, то она является формой общественной практики, основана прежде всего на осознании необходимости взаимопомощи и даже в самых примитивных случаях представляет собой комплекс сознательных действий, базирующихся на опыте и знании.
Социальная сущность М. на первый взгляд исключает возможность ее существования до того, как сформировалось человеческое общество. Вместе с тем представление о наличии периода становления общества и таких исторических категорий, как «формирующийся человек», «формирующееся общество», «формирующееся производство», позволяет по аналогии говорить и о «формирующейся медицине», как о периоде ее предыстории, тем более, что действия по оказанию помощи при болезнях и травмах имели, по-видимому, определяющее (после добывания пищи) значение для самого существования первобытных коллективов.
Острая борьба социального и биологического в «формирующемся обществе» способствовала появлению первых социальных приобретений «формирующегося человека», в т.ч. и приобретений медико-гигиенического характера. По мере развития производственной деятельности, мышления и укрепления единства праобщины подобно трансформации «рефлекторного труда» животных и предлюдей в сознательный человеческий труд происходила и трансформация инстинктивных действий по самопомощи, унаследованных от животных предков, в человеческую медико-гигиеническую деятельность. По-видимому, рубежом, отделяющим инстинктивную самопомощь от «формирующейся медицины», можно считать появление взаимопомощи. До тех пор, пока первобытный человек не отделял помощь при болезнях и травмах от собственной жизнедеятельности, пока побудительным моментом его действий были лишь собственные ощущения и переживания, господствовал инстинкт самосохранения. С того времени, когда объектом помощи становится другой человек, когда помощь при болезнях и травмах превращается в средство сохранения жизни, здоровья и трудоспособности других членов коллектива, зарождается медико-гигиеническая деятельность как форма общественной практики. Такая деятельность могла появиться лишь в коллективах, достигших сравнительно высокого уровня единства, осознавших значение коллективного труда для обеспечения существования каждого отдельного их члена. Возникновение «формирующейся медицины» стало возможным лишь при достижении уровня мышления и сознания, достаточного для восприятия, сохранения и передачи опыта, на стадии появления в «формирующемся обществе» зачатков нравственных представлений. Причем последнее условие сыграло, по-видимому, определяющую роль: исторически прослеживается совпадение периодов кризисных ситуаций в М. с периодами снижения нравственного уровня общества.
Условия, необходимые для возникновения «формирующейся медицины», по-видимому, сложились в середине мустьерского времени, в стадах неандертальцев. Многие археологи, антропологи. этнографы рассматривают мустьерское время как крупный узловой момент, особую эпоху в формировании морфологических черт людей, развитии социальных хозяйственно-бытовых отношений, мышления, языка, в создании орудий, возникновении первых представлений об окружающем мире. Одним из выдающихся достижений неандертальского человека было «изобретение» способа искусственного добывания огня, что окончательно отделило людей от животных. Уменьшая зависимость человека от природы, огонь предоставил возможности для расширения ареала расселения, разнообразия питания, позволил отделить жир от мяса. что создало условия для использования жира животных в лечебных целях. Наконец, стало возможным применение искусственных тепловых процедур (использование с лечебными целями солнечного тепла и горячих источников. видимо, началось раньше). О резко возросшем (по сравнению с синантропом) уровне мышления неандертальского человека свидетельствуют значительное (не менее чем в 2 раза) увеличение объема головного мозга и характер орудийной деятельности. Неандертальцы изготовляли скребла, служившие для обработки кожи убитых животных и разрезания их туш, резцы, а на рубеже родового строя появились ножи с концевой затеской (так называемые мясные ножи), которые кроме обработки туш предназначались для кройки шкур и приготовления нитей из сухожилий, применявшихся для шитья одежды. Изготовление таких орудий, несомненно, требовало обучения. Это дает основание полагать, что в стадах неандертальцев появилась устойчивая традиция передачи накопленного опыта. В частности, считают, что инициации (система обрядовых действий, связанных с переводом юношей и девушек в возрастную группу взрослых мужчин и женщин) зародились именно в стадах неандертальцев. В этой связи представляется важным, что инициации сопровождались не только передачей опыта, но и (для мужчин) мучительными испытаниями — нанесением различных телесных повреждений, о чем, в частности, свидетельствуют дошедшие до нашего времени мифы и предания, восходящие, по мнению специалистов, к дородовому периоду истории человечества. Если не принимать во внимание различные фантастические наслоения (например, в некоторых сказаниях говорится, что у испытуемого удалялись органы или тело его расчленялось, после чего под действием каких-то средств и приемов он становился более сильным и выносливым), эти мифы дают основания для вывода, что в процессе инициации производились хирургические вмешательства, применялись различные средства, вызывающие длительный сон и утрату (или значительное снижение) болевой чувствительности, и что в дальнейшем создавались условия и использовались средства для заживления нанесенных повреждений.
Исследования 60—70-х гг. позволяют считать, что у неандертальцев инстинктивные побуждения все больше уступали место общественно осознанным формам поведения. Прежде всего стада неандертальцев — это не просто стада с ограниченным по времени промискуитетом. По мнению многих этнографов, у неандертальцев уже существовала разветвленная система ограничений-запретов (табу), представлявших собой не что иное, как первые моральные и этические нормы, явившиеся основой для формирования и развития нравственных представлений и человеческой морали. Резкое ограничение числа убийств внутри стада и исчезновение каннибализма свидетельствуют о том, что они уже были включены в число запретов и эти запреты в целом соблюдались.
Высокий уровень единства и наличие нравственных представлений позволяют с достаточной долей уверенности говорить, что именно у неандертальцев возникла взаимопомощь, в т.ч. оказание помощи при болезнях и травмах, а взаимная забота все больше входила в быт праобщины. Об этом, в частности, свидетельствуют обнаруженные в пещерах Шанидар и Мугарет-эс-Схуд горы Кармел в Ираке останки людей неандертальского типа со следами прижизненно заживших травм. Так, при изучении скелета взрослого мужчины (так называемый Шанидар I) были установлены отсутствие правой руки выше локтевого сустава вследствие травмы и тяжелое ранение лица с повреждением костей лицевого черепа. Возраст этой находки не менее 44 тыс. лет. Другой скелет (так называемый Шанидар ill) носил следы прижизненно заживших множественных переломов ребер и тяжелого ранения с повреждением бедренной кости (возраст находки около 50 тыс. лет). Прижизненное заживление столь тяжелых травм требовало оказания соответствующей помощи и длительного ухода. Кроме того, после выздоровления трудоспособность потерпевших была ограничена и, следовательно, они должны были находиться на иждивении коллектива.
Недостаток данных не позволяет с достоверностью судить об объеме средств, приемов и методов, которыми располагала «формирующаяся медицина». Вместе с тем не вызывает сомнения, что на практике использовались не только лекарственные растения, но и средства животного происхождения (например, животный жир, смесь его с золой). Специалисты в области фольклористики считают установленным, что представления о «живой» и «мертвой» воде зародились в периоде становления человечества. Они могли быть связаны не только с пониманием могущества грозной стихии и осознанием значимости воды в жизнедеятельности, но и с накоплением опыта применения недоброкачественной воды, вызывавшей массовые заболевания («мертвая» вода), и минеральных вод, дававших лечебный эффект («живая» вода).
Археологические находки указывают на возможность существования у неандертальцев хирургической практики. Имеются основания считать, что неандертальский человек владел техникой вскрытия абсцессов и других поверхностных нагноительных образований, наложения швов на рану, а возможно, и другими более сложными хирургическими приемами. Имевшиеся в распоряжении неандертальского человека кремниевые орудия (скребло, листовидные резцы и особенно нож с концевой затеской) позволяли выполнять эти действия.
В мустьерский период получили развитие и некоторые меры, имеющие важное гигиеническое значение. Так, значительное расширение ареала расселения (неандертальские люди проникли на территории Европы и Сибири вплоть до предледниковых зон) потребовало выработки мер защиты от холода. Строились жилища. В центре каждого из них располагался, как правило, равномерно обогревающий его очаг, появились представления о правильной ориентировке жилища с учетом господствующей на данной территории розы ветров. Жилища сооружались на возвышенных местах, обычно вблизи источников с проточной водой. Появилась одежда, для изготовления которой использовались шкуры убитых животных. Не исключено, что к этому времени начали осваиваться приемы, обеспечивающие удобство ношения одежды (отсутствие стеснения при движении, предупреждение раздражающего действия на кожу и т.п.). Судя по мифам, приблизительно в это же время возникли первые установки личной гигиены. Важное гигиеническое значение имел появившийся у неандертальцев обычай погребения умерших, которому, по мнению ряда этнографов, предшествовал обычай оставлять труп умершего в жилище: сохранение трупов умерших в жилищах приводило к вспышкам инфекционных болезней, что породило у человека страх перед умершими, возникли представления о «мести умершего» и его влиянии на судьбу живых. Родился обычай хоронить в связанном состоянии (у неандертальцев), затем — обертывая труп полотном, а еще позднее — помещая в гроб (сделать все возможное, чтобы умерший не встал). Т.о., обычай погребения в своей основе носил гигиеническую направленность.
У неандертальцев возникли первые связи между отдельными стадами, которые определили возможность половых контактов между представителями различных стад. Межстадные половые контакты привели к метисации, смешению неандертальских коллективов, утрате примитивных признаков и формированию homo sapiens.
Первобытная община, явившаяся результатом развития человеческого стада в течение сотен тысяч лет, прошла, в свою очередь, ряд сменявших друг друга этапов развития производственно-хозяйственной деятельности и социальной структуры. Первые люди современного типа, жившие в период позднего палеолита (примерно 40—10 тыс. лет назад), занимались собирательством, охотой и рыболовством, владели орудиями из камня, дерева, кости. Основной ячейкой общинно-родового строя — первой в истории человечества социально-экономической формации — был род: материнский (матриархат) или отцовский (патриархат). Сохранился свойственный первобытному стаду коллективный характер труда, собственности на орудия труда, потребления продукта трудовой деятельности.
Смена позднего палеолита мезолитом (средним каменным веком) совпала со временем, когда на земле сформировались современные климат, растительность, животный мир. Датирование мезолита различно по отношению к разным регионам. Так, считают, что народы Ближнего Востока проходили этот этап исторического развития 12—9 тыс. лет назад, а народы Европы — 10—7 тыс. лет назад (в северных ее районах эта эпоха закончилась 6—5 тыс. лет назад). В мезолитическую эпоху у человека появились топор, лук и стрелы, рыболовная сеть и другие орудия. Широко использовалась собака, прирученная, вероятно, в позднем палеолите, началось приручение свиньи и других видов животных. На грани мезо- и неолита (приблизительно 10—5 тыс. лет назад) начался постепенный переход к земледелию, скотоводству. Результатом явилась кардинальная перемена в жизни общества, характерная для неолита, — оседлость; произошел первый демографический взрыв (резкий рост численности населения), на основании чего многие исследователи говорят о «неолитической революции», явившейся первым экономическим переворотом в истории человечества.
За несколько тысячелетий до нашей эры началось постепенное вытеснение каменных орудий изделиями из металла. В возрастающих масштабах осуществлялось общественное разделение труда (в частности, с развитием скотоводства возникло пастушество), первые формы которого (разделение обязанностей с учетом возрастно-половых признаков) появились на ранних ступенях развития родовой общины. Установились сравнительно широкие торгово-культурные связи. Наступил бронзовый век, а с ним и переход к новой ступени развития человечества, характеризующийся возникновением раннеклассового общества и древних цивилизаций.
Неоантропы, или люди современного вида, жившие начиная с эпохи позднего палеолита (так называемые кроманьонцы), обладали развитым мышлением, способностью к абстрактным аналитико-синтетическим построениям. Это нашло выражение, в частности, в усовершенствовании технологии производства орудий труда, в установлении определенных закономерностей явлений природы и создании концепции окружающего мира.
Данные современной исторической науки, в частности исследования в области сравнительно-исторической этнографии, мифологии, вступают в противоречие с традицией сводить происхождение религиозно-символических представлений и действий лишь к тому, что первобытный человек в страхе перед непонятными явлениями природы придавал этим явлениям (предметам, животным) сверхъестественные свойства и наделял их человеческими чертами. Многие зарубежные и советские исследователи, учитывая логическое своеобразие мышления первобытного человека, рассматривают миф и ритуал как воплощение фундаментальных черт мышления, социального поведения и художественного творчества человека в архаических обществах. В связи с этим получили развитие представления об эпохе мифологического сознания, по законам которого осмысление накапливаемого эмпирического знания могло происходить только через образное нерасчлененное восприятие мира. Согласно этой точке зрения, у первобытного человека конкретные знания (в т.ч. медицинского характера), имеющие реальную основу, постоянно сосуществовали, переплетались с религиозно-символическими представлениями о мире. Тотемистические представления о родстве группы людей (обычно рода) с определенным животным (растением или явлением природы), которое давало имя роду, сложившиеся еще в стадах неандертальцев, в родовой общине стали основой всех моральных норм. В рамках тотемистических представлений развивались фетишистские (культ неодушевленных предметов и явлений природы, наделяемых сверхъестественными свойствами, отсюда амулеты, талисманы и т.д.) и анимистические (вера в существование душ и духов) взгляды, оказавшие большое влияние на первобытную М. Первобытный человек «населял» всю живую и неживую природу сверхъестественными, сверхчувственными образами — духами, управляющими всеми предметами и явлениями природы, в т.ч. человеком. Развитие идеи о возможности раздельного существования души (духа) и предметного образа привело к представлению о бессмертии души и формированию веры в загробную жизнь. Идея подвижности духов способствовала утверждению возможности их переселения в другие предметы, в частности вселения в человека духов болезни.
Медицинские представления и медицинская деятельность развивались на основе прогресса хозяйственно-производственных. бытовых, социально-культурных и иных отношений, а также мировоззрения первобытного человека. Наиболее вероятно, что первоначально М. была народной в буквальном смысле этого слова, т.е. коллективным опытом, которым владели и который применяли все (или многие) члены данного коллектива. Однако еще на ранних стадиях развития родовой общины начинается процесс концентрации знаний о явлениях природы, болезнях, мерах их предотвращения, оказании необходимой помощи; внутри каждого рода формируется определенный круг лиц со все более суживающимися функциями, в которые входило и врачевание.
Согласно преобладавшей в историко-медицинской литературе традиционной точке зрения, первым врачевателем в человеческом обществе являлась женщина. Обоснованием этого утверждения служат следующие доводы: добыча растительной пищи была обязанностью главным образом женщин, опыт лечебного применения растений, естественно, передавался из поколения в поколение по женской линии; археологические находки изображений женщины, относящиеся к первобытному обществу, могут расцениваться как олицетворение повивальных и других функций врачевательницы. О том же свидетельствуют памятники ранней письменности, включившие предшествующее мифологическое творчество. Эта же идея получила более позднее выражение в древних культах богинь — носительниц плодородия и врачевания. Однако современная наука располагает также данными о столь же древнем происхождении врачевателей-мужчин Об этом говорят конкретные мифы некоторых народов: Например, Л.Я. Штернберг (1925) приводит финский миф о том, что орел, культ которого сложился сравнительно рано, приносит людям огонь в благодарность Вейнесеняску — одному из первых шаманов-врачевателей. Во многих регионах одним из древнейших культов был фаллический — поклонение каменному изваянию мужского полового органа, служившему символом плодородия и по представлению древних приносившему исцеление, в древнейших пантеонах покровителями врачевания выступали божества мужского пола. На это же косвенно указывает получивший дальнейшее развитие в родовой общине институт инициаций. Он был, в сущности, своеобразным «университетом» первобытного человека, обеспечивавшим передачу новому поколению сакрализованных преданий, верований, обычаев рода (племени), накопленных знаний, в т.ч. медицинского характера. Распространяясь и на юношей, и на девушек, инициации все же по сложности ритуала, длительности обучения и тяжести испытаний были направлены преимущественно на лиц мужского пола. Согласно некоторым мифам, подготовка к колдовству, включавшему и врачевание, осуществлялась учителем, который жил чаще всего «за морем», «за рекой», «в другом царстве», учение продолжалось от 3 до 7 лет, нанесение повреждений и лечение ран проводились в специальных помещениях — «дом в лесу» (В.Я. Пропп, 1946).
О врачебной профессии как таковой можно говорить только применительно к более поздней эпохе древних цивилизаций. Но по мере развития первобытного общества в медицинской деятельности все больше появлялось элементов профессионализма. С возникновением и развитием религии обособлялась группа служителей культа, которым приписывались тайные знания. особая способность воздействия на силы природы и которые постепенно монополизировали как религиозные, так и некоторые другие функции, в т.ч. функции врачевания: «профессии» мага (колдуна) и знахаря (врачевателя) обычно совмещались в одном лице, возвышавшемся над рядовыми членами общины. Т.о., истоки жреческой (храмовой) М., получившей высшее развитие в эпоху древних цивилизаций, появились на стадии родового общества. Положительным следствием концентрации медицинских знаний и деятельности, ставших привилегией узкого круга лиц, было возникновение условий для более быстрого накопления эмпирических сведений о проявлениях, течении и исходе болезней, а также мерах их предупреждения и лечения.
Господствовавший мифологический стиль мышления обусловил распространение фантастических (анимистических и демонологических) представлений о причинах болезней: влияние или внедрение злых духов, околдование, сглаз, похищение или околдование души, внедрение в тело человека гипотетических маленьких живых существ. Последнее, по мнению некоторых исследователей, легло в основу образования ряда названий болезней, в т.ч. современных (рак, грудная жаба и др.).
В соответствии с этими представлениями складывались принципы лечения — практика борьбы с демонами, включающая их устрашение, обман, задабривание, изгнание. Этим целям, в частности, служили обрядовые и ритуальные действия: причудливая одежда и устрашающие маски врачевателя-шамана. громкие крики, использование шумовых эффектов и т.п. Для обмана духа болезни применялись переименование, маскировка человека, чтобы демон ошибся при его посещении и попытке внедриться в него. Формой охраны от болезней служили различные амулеты и заговоры. Для изгнания демона болезни использовали также прием внутрь веществ, вызывающих отвращение: кал животных и людей, горечи и т.п. При этом предполагалось, что тягостное и неприятное для больного должно быть в такой же мере тягостно и неприятно для вселившегося в него демона, в связи с чем он предпочтет быстро переселиться в более комфортные условия.
Вопрос об эффективности демонологической М. не может быть решен однозначно. Хотя по сложившейся историко-медицинской традиции ее приемы относят к проявлениям «господствовавших суеверий», нельзя полностью отрицать их психотерапевтического воздействия и возникающего в связи с этим облегчения состояния больного. Нельзя также пройти мимо имеющихся в современной литературе указаний о возможном стимулирующем влиянии психотерапевтического воздействия на выработку организмом биологически активных веществ, оказывающих лечебный эффект. Наконец, не следует забывать, что отдельные первобытные врачеватели могли обладать экстрасенсорными способностями. Несомненно, что истоки психотерапии лежат именно в ритуальных действиях первобытных врачевателей, эффективность этих действий обусловливалась известным единством форм воздействия и господствующего стиля мышления.
Произведения устного народного творчества, зафиксированные в начальный период письменности, данные археологии и этнографии свидетельствуют, что М. родового общества располагала многими рациональными средствами и приемами медицинской помощи. Заинтересованность рода в численном росте и, следовательно, в выживании рожениц и новорожденных стимулировала становление акушерской помощи, которая по мере развития родоплеменных отношений принимала все более стабильный характер. Возник культ материнства. Опыт лечебного использования растительных средств в период родового общества обогатился за счет включения новых лекарственных растений (главным образом обезболивающих, рвотных, послабляющих) и переосмысления показаний к применению каждого из них. В лечебный арсенал входили также средства животного и минерального происхождения, различные манипуляции лечебного характера: широко использовались припарки и перевязки массаж и натирание жиром, кровопускание и т.д.
Дальнейшее развитие получили идеи и практика применения с лечебными целями воды и огня: использовались минеральные воды. термальные и холодные источники, например с целью лучшего заживления ран. Представления о целительной силе «живой» воды отражены в мифах разных народов, многих ритуально-заговорных атрибутах («заговоры на воде» и т.п.), а позднее легли в основу христианского обряда крещения. Расширение сферы применения огня как лечебно-предупредительного средства также было сопряжено с представлением о его «очистительной силе», способной отгонять от человека и изгонять из его тела духов болезни. Использовали окуривание людей и их одежды, разведение костров при входе и выходе из селения, уничтожение паразитов воздействием высокой температуры, сжигание одежды больных и трупов умерших людей, обжигание инструментов перед хирургическими вмешательствами и т.д. Эволюция ритуалов, связанных с применением огня, точно так же, как и воды, привела к замене первоначальной процедуры чисто символическими действиями, например сжигание трупов сменилось зажиганием огня на могиле, а еще позднее (в христианской религии) свелось к зажиганию свечей.
Сравнительно высокого уровня развития в родовом обществе достигла хирургическая деятельность. Анализ трепанационных отверстий в ископаемых черепах показывает, что происхождение их не всегда можно объяснить в рамках традиционной трактовки данной операции как чисто ритуального вмешательства (инициации, «выпускание духа болезни»). В ряде случаев речь может идти скорее об извлечении костных осколков из мозга с обработкой костных краев раны или о других строго медицинских показаниях к операции. Осуществлялась помощь при травмах: первобытные врачеватели умели вправлять вывихи, иммобилизировать поврежденную конечность, останавливать кровотечение прижатием сосуда, а также с помощью золы, паутины или жира. Проводились ритуальные операции — обрезание, дефлорация. Имелись наборы хирургических инструментов из камня, кости, бронзы. Этнографические материалы позволяют предполагать возможность проведения ампутации конечностей и некоторых полостных операций. Норманны мифологических времен умели заживлять проникающие раны живота, с целью определения глубины проникающей раны пробовали кровь на вкус или давали раненому выпить определенное зелье, а затем нюхали рану (из глубокой раны исходил запах выпитого зелья). Врачевателем, оказывающим хирургическую помощь, мог быть и мужчина, и женщина. Кандидаты во врачеватели у многих народов, видимо, подвергались «учебным» хирургическим вмешательствам, о чем свидетельствует, например, ритуал посвящения у австралийского племени аранда; при этом весьма вероятно применение обезболивающих и обеззараживающих средств.
Развивалась и народная гигиена. Умение восстанавливать силы для труда, защищаться от действия неблагоприятных условий окружающей среды, закрепленное в обычаях и ритуалах рода (племени), касалось разных сторон быта: устройства жилища, питания, одежды, правил личной гигиены, захоронения умерших и т.д.
При выборе места для жилища применяли специальные приемы выявления «здорового» участка: в пережиточном виде они сохранились в практике разных народов. Так, на Украине, в Проскуровском уезде даже в 19 в. выкапывали угловые ямы, насыпали туда немного ржи, клали куски хлеба, ставили по стакану воды; если на следующий день находили хлеб и воду неизмененными, место считалось подходящим. Важным гигиеническим приобретением первобытного человека стал навык хранения продуктов питания и воды в закрытых емкостях с использованием трав, обладающих свойством отпугивать злых духов, т.е. замедлять процессы гниения. В гигиенических и лечебных целях использовали бани, соединившие в себе «очистительные силы» воды и огня.
Для первобытной М. на поздних ступенях развития родового общества характерно постепенное усложнение обрядовых действий, связанное с развитием религиозных представлений. Обряд, с одной стороны, закреплял приобретенные знания и приемы и тем самым способствовал их передаче из поколения в поколение, с другой стороны, канонизируя их, устанавливая строгую последовательность медицинского ритуала, он в определенной мере суживал возможности включения новых эмпирических знаний в систему накопленного медицинского опыта, мешал избавлению от неэффективных приемов и концепций; религиозно-магические действия и словесные формулы как проявление идеологической основы врачевания получали едва ли не ведущую роль, подчас полностью подменяя рациональные приемы. Этот естественный исторический процесс обычно однозначно трактуется как отход от рациональных основ народной М. под влиянием набравших силу религиозных представлений, как определенный шаг назад в развитии М. Разумеется, полная замена рациональных методов лечения в практике первобытной М. и медицины древних цивилизаций имела место. Но значительно чаще древние врачеватели прибегали одновременно и к рациональным и к обрядово-магическим приемам. Исходя из современных представлений, можно говорить, что в этих случаях врачеватели использовали все доступные им средства лечения: лекарственную терапию (лекарственные растения и т.п.), физические методы лечения (минеральные воды, тепловые процедуры, массаж), хирургические приемы и психотерапию (обрядовые действия, амулеты, заклинания, заговоры).
В медицине первобытного общества, т.о., можно проследить начало той цепи наблюдений и открытий, которая путем накопления множества сведений и приемов рационального характера, осмысленных преимущественно в рамках мифологизированных представлений о мире, составила основу М. древних цивилизаций.
Медицина древних цивилизаций
Переход к земледелию и скотоводству — узловой переломный момент в истории человеческого общества, коренным образом изменивший условия жизни, представления об окружающей природе, характер производственной деятельности и духовный мир человека. Производительное хозяйство обеспечило регулярное производство избыточного продукта, что создало условия для сравнительно быстрого роста населения, способствовало выделению ремесла, интенсификации товарообмена, появившеюся еще в охотничьем хозяйстве, возникновению торговли, а также частной собственности и имущественного неравенства, стимулировавших разложение первобытнообщинных отношений и как следствие — расслоение общины. Зародышевые формы присвоения прибавочного продукта переросли в эксплуатацию. Получили развитие различные формы повинностей, кабальной зависимости, появилось рабство. Все более возрастала роль войн с целью грабежа и захвата рабов. Войны в значительной степени ускоряли процесс классообразования и способствовали созданию родоплеменных союзов, на базе которых возникли первые государственные образования. Становление классового общества сказалось на общественном сознании, возникли право и религия как первые формы идеологии, освящающие имущественное и социальное неравенство.
Переход к производительному хозяйству происходил постепенно и начался на тех территориях, где природные и климатические условия в большей степени благоприятствовали развитию земледелия и скотоводства. Данные археологии свидетельствуют, что этот процесс начался в 9—7 тысячелетии до н.э. в ряде районов Ближнего и Среднего Востока; к 6—5 тысячелетию до н.э. новая форма хозяйства утвердилась в междуречье Тигра и Евфрата и долине Нила, где сформировались две древнейшие цивилизации — шумерская и древнеегипетская. к 5 тысячелетию — во многих районах Юго-Западной Азии. Возникновение раннеклассовых обществ в бассейне Эгейского моря. Палестине, долинах Инда, Хуанхэ, Амударьи и Сырдарьи относят к 3—2 тысячелетию до н.э.
Многие исследователи подчеркивают особую роль земледелия в создании первых цивилизаций, в возникновении и развитии естественнонаучных представлений и техники. Занятие земледелием обусловило оседлость, строительство храмов и поселений городского типа вокруг них. Известно также, что первые цивилизации, на базе которых возникли государственные образования, были приречными. Необходимость повышения продуктивности земледелия потребовала проведения астрономических наблюдений и создания ирригационных сооружений, а оседлый образ жизни способствовал выделению ремесла и возникновению относительно стабильных форм управления.
Типичной формой религиозного мышления народов древнего мира был политеизм, что не исключало возможности возникновения монотеистических взглядов в определенных исторических условиях (например, установление культа Атона в Египте в 14 в. до н.э., культ Яхве у древних евреев в 1 тысячелетии до н.э., христианство с 1 в. н.э. на территории Римской империи).
Религиозное мировоззрение было господствующим, однако наряду с ним возникло светское мировоззрение в виде философских учений, многие из которых слились с религиозными верованиями (например, конфуцианство, брахманизм. буддизм). Философские учения имели как идеалистическое (натурфилософия, стоицизм, платонизм), так и материалистическое (учения Брихаспати, Демокрита, Эпикура и др.) направление.
Народами древнего мира созданы непреходящие общечеловеческие ценности в области естествознания, техники, философской мысли, литературы, изобразительного искусства, скульптуры, архитектуры, строительства. Они явились предметом подражания и дальнейшего развития на последующих этапах развития человеческой культуры.
Огромны достижения древних цивилизаций в области медицины и медико-санитарного дела. Развитие производительного хозяйства обусловило выделение в числе различных форм деятельности и профессиональной медицины. Ведущей формой была храмовая, или жреческая, М. с присущими ей магическими обрядами и мистическими приемами. В то же время памятники письменности свидетельствуют о том, что представители жреческой М. широко применяли и рациональные методы диагностики и лечения, унаследованные от народной медицины. Известно также, что в древних цивилизациях появилась светская, или внехрамовая, М. Продолжалось развитие рационального начала в медицине, в государствах древности возникло медицинское образование; медицинские школы создавались главным образом при храмах, но имелись также государственные и частные (семейные и ремесленные) школы. Появились первые лечебные учреждения, медико-санитарные организации в армии и на флоте; законодательство ряда государств регулировало формы врачебной практики, устанавливало ответственность за незаконное врачевание и врачебные ошибки, причем в законодательстве нашел полное выражение классовый характер древних цивилизаций.
Врачи древности оставили богатое литературное наследие, ставшее одним из важнейших источников знаний о состоянии медицины того периода. Многие медицинские труды древности на протяжении веков служили пособиями для подготовки врачей и сами были предметом многочисленных компиляций и заимствований.
На основе религиозных представлений и натурфилософских воззрений были сформулированы первые общебиологические концепции — гуморальная, пневматическая и солидарная. Во взглядах на причины болезни наряду с рациональными уживались демонологические и астральные представления. Анатомические наблюдения, вскрытие трупов людей и животных позволили получить данные о строении и функциях человеческого тела, его отдельных органов и систем. Достаточно детально были разработаны многие вопросы практической М., в частности внутренних болезней, дерматологии, офтальмологии, хирургии и др. В трудах древневосточных и античных врачей описывались симптомы многих заболеваний, некоторые рациональные диагностические приемы (опрос, осмотр, ощупывание, исследование пульса и др.), а также формы лечебного применения многих средств растительного, животного и минерального происхождения; часть из них используется и в современной М. Хирурги древности успешно лечили вывихи, переломы, ранения, владели техникой ряда хирургических операций, методами обезболивания.
Данные археологии свидетельствуют о санитарном благоустройстве древних городов, имевших канализацию, водоснабжение, крытые рынки, общественные бани, бассейны и т.п. Соблюдение правил личной гигиены (поддержание чистоты тела и жилища, смена одежды, удаление нечистот и т.п.) и рационального образа жизни (умеренность в питании и половой жизни, двигательная активность, занятия спортом и т.д.) предписывалось религией и обычаями. Известно также, что законодательством ряда государств был установлен государственный надзор за качеством пищевых продуктов, продаваемых на рынках. Осуществлялись отдельные противоэпидемические мероприятия.
Медицина древних цивилизаций развивалась на основе преемственности. Исчезновение с исторической арены той или иной цивилизации не означало исчезновения ее культуры и накопленного опыта. Так, известно, что цивилизация шумеров, исчезнувшая в 3 тысячелетии до н.э., послужила основой для развития культур государств хеттов, вавилонян, ассирийцев, иранцев, урартов. Гигиенические установления древних евреев, изложенные в Моисеевых заповедях, в значительной мере заимствованы у древних египтян. Большое влияние на М. народов, населявших в древности территорию современной Армении, оказали достижения М. шумеров, хеттов и вавилонян. Врачи Древней Греции систематизировали, дополнили и развили медицинские представления народов Древнего Востока. После походов Александра Македонского греческая М. пришла на Восток. С падением Западной Римской империи византийские, среднеазиатские и арабские врачи, ставшие наследниками М. древних цивилизаций, дополнили ее рядом новых открытий и передали эстафету врачам Европы, которые на фундаменте наследия врачей древности заложили стройное здание современной медицины.
Медицина в Древнем Египте. Долина Нила — один из древнейших очагов цивилизации. Не позднее 5 тысячелетия до н.э. здесь возникла земледельческая культура с применением с.-х. орудий и появились первые городские поселения. К 5—4 тысячелетию до н.э. относится проведение первых ирригационных работ (сооружение каналов, дамб, шадуфов). В 4 тысячелетии до н.э. началась обработка меди, появились гончарное, ткацкое и керамическое производства, фаянс, с 3 тысячелетия до н.э. изготовлялось стекло, во 2 тысячелетии до н.э. входят в употребление сначала бронза, а затем железо.
Около середины 4 тысячелетия до н.э. на территории Древнего Египта образовалось два царства (Нижний и Верхний Египет), с объединением которых в единое государство (около 3000 лет до н.э.) страна превратилась в централизованную восточную деспотию. Додинастический период истории Древнего Египта (около 4000—3000 лет до н.э.) и эпохи Раннего (около 3000— 2800 лет до н.э.) и Древнего (около 2800—2250 лет до н.э.) царств ознаменованы крупными достижениями в области культуры, хозяйственной и политической деятельности. По-видимому, не позднее 4 тысячелетия до н.э. появилась египетская иероглифическая письменность: наиболее ранние из дошедших до нашего времени памятников древнеегипетской литературы датируют 32 в. до н.э.
Потребности совершенствования хозяйственной деятельности (ирригация, строительство, проводившиеся в эпоху Древнего царства в широких масштабах) и государственного управления (введение сложной налоговой системы) обусловили развитие астрономических и математических знаний. Приблизительно к 4 тысячелетию до н.э. относят создание египетского календаря; для измерения времени применялись солнечные и водяные часы. Египтяне первыми ввели десятичную систему исчисления, знали дроби, четыре действия арифметики, прогрессии, вычисляли площадь прямоугольника и треугольника, поверхность и объем простой и усеченной пирамиды.
В эпоху Древнего царства сложилась и египетская система образования. Сначала при дворце фараона были созданы школы для обучения чтению, счету и письму будущих чиновников, позднее появились школы при храмах, в которых давалось главным образом религиозное образование, а также преподавались астрономия и медицина.
Религиозные представления древних египтян постоянно развивались, хотя приверженность к традициям, заставлявшая наслаивать новые представления на старые, способствовала сохранению пережитков даже первобытных верований. Так, у египтян сохранялись долгое время фетишизм, тотемизм (почти каждое египетское божество почиталось в виде какого-либо животного, позднее — в виде человека с головой животного). Наряду с этим египтяне. по-видимому, первыми ввели в религию антропоморфные представления (культ Осириса и Исиды, обожествление архитектора и врача Имхотепа и др.), представление о суде справедливости в загробном мире, культ умирающего и воскресающего бога, являвшегося одновременно верховным судьей в царстве мертвых, и т.д. Египтяне выстроили иерархию богов более жесткую, чем у других народов Древнего Востока. Важное место в мировоззрении древних египтян занимали учение о бессмертии души и связанный с ним культ мертвых. Согласно древнеегипетским верованиям, у человека было несколько душ, важнейшая из которых Ка (божественный двойник человека, олицетворяющий собой жизненную силу) после смерти отделялась от тела и отправлялась в странствия по загробному царству. Достичь вечного блаженства можно было при условии, если тело будет сохранено в целости (отсюда обычай мумифицировать трупы) и если на суде Осириса будет установлено, что сердце умершего не отягощено грехами.
Источниками знаний о состоянии М. в Древнем Египте являются дошедшие до нашего времени папирусы с медицинскими текстами, многочисленные иероглифические надписи на саркофагах, пирамидах, колоннах храмов, различные памятники материальной культуры (санитарно-технические сооружения, хирургические инструменты, предметы бытового обихода, произведения искусства). Некоторые сведения медико-гигиенического характера, а также косвенные свидетельства об уровне развития М. и состоянии медицинской помощи в Древнем Египте имеются в памятниках письменности религиозного содержания, государственных и дипломатических документах, литературных произведениях. Кроме того, оценка достижений древних египтян в области М. дана в произведениях античных авторов. Египтяне обладали обширными для своего времени знаниями в области хирургии, внутренних и кожных болезней, акушерства, лечения зубов и др. Они создали школы для подготовки врачей. Вместе с тем в текстах медицинских папирусов встречается большое количество магических формул, заклинаний и обрядов, выполнением которых должно было сопровождаться каждое рациональное действие врача и больного, чтобы обеспечить успех в диагностике и лечении. Причем исследователи древнеегипетских медицинских папирусов отмечают, что более ранние тексты менее отягощены религиозной мистикой и магическими формулами. Так, папирус Смита (дошедший до нашего времени экземпляр, датируемый 1550 г. до н.э., считают копией раннего текста, авторство которого приписывается Имхотепу, не позднее 2700 г. до н.э.) в отличие от остальных папирусов, составленных значительно позднее, не содержит каких-либо магических заклинаний. Это дало основание немецкому египтологу Г. Грапову (1954) сделать вывод, что медицина в Египте с течением времени все более и более погружалась в колдовство и мистику. Такое положение представляется вполне объяснимым и даже естественным, если принять во внимание характер мировоззрения древних египтян и ту напряженную работу по развитию религиозных представлений и обрядов, которая составляла главное содержание интеллектуальной жизни древнеегипетского общества. Кроме того, не следует забывать, что древнеегипетская М. времен Имхотепа базировалась на опыте земледельческой и охотничьей общины и не могла быть свободна от демонологических, тотемистических, анимистических представлений. Они не попали в текст папируса Смита, вероятнее всего, потому, что эпоха Древнего царства была периодом формирования системы верований древнеегипетского общества. В дальнейшем по мере разработки религиозных представлений и обрядов в медицинские папирусы (кроме папируса Смита, текст которого в связи с обожествлением Имхотепа был канонизирован) включались различные магические формулы и заклинания. Однако под теургической оболочкой рациональные начала древнеегипетской М. сохранялись: магические действия и заклинания лишь сопровождали рациональные приемы. Более того, судя по содержанию папирусов, древнеегипетская М. во 2 тысячелетии до н.э. сделала много рациональных приобретений в области гигиены, диагностики и лечения.
Согласно воззрениям древних египтян, ведущее место в жизнедеятельности организма занимали кровь и пневма. Под пневмой понимали находящуюся в воздухе невидимую и невесомую субстанцию, которая при вдохе поступала в легкие, затем в сердце и далее вместе с кровью расходилась по всему телу. Болезнь означала изменение свойств или соотношений крови и пневмы. Т.о., в древнеегипетской М. зародились две важнейшие общепатологические концепции — гуморальная и пневматическая, которые в различных формах сохранялись в М. на протяжении более 3 тысячелетий. Вместе с тем существование учения о пневме не исключало и демонологических представлений, согласно которым определенная роль в возникновении болезней приписывалась духам. Причем имеются основания считать, что на определенном этапе развития древнеегипетской медицины эти представления (пневматическое и демонологическое) взаимно дополняли друг друга.
Египтяне полагали также, что многие вредные для организма вещества, изменяющие свойства крови и пневмы, содержатся в пищевых продуктах. Обе приведенные причины служили обоснованием для проведения «очистительных» процедур с целью предупреждения и лечения болезней. Так, древнеегипетские врачи рекомендовали каждые три дня принимать рвотные средства и промывать кишечник, при многих заболеваниях назначали клизмы, рвотные, слабительные, мочегонные и потогонные средства; для удаления «испорченной крови» применялись кровопускания. Благоприятной считалась отрыжка, удаляющая «испорченный воздух». Однако приверженность к очистительным процедурам имела определенные пределы: существовали правила, согласно которым, в частности, запрещалось назначать рвотные и слабительные средства больным с острыми заболеваниями ранее третьего дня болезни (Геродот).
В литературе имеются указания, что в Древнем Египте существовали и космогонические представления о четырех элементах — воде, воздухе, земле и огне, в связи с которыми возникли зачатки классического гуморального учения о четырех основных соках организма, определяющих состояние здоровья или болезни. Эти указания, однако, не согласуются с имеющимися данными о том, как представляли себе древние египтяне происхождение и картину мира. Вместе с тем не исключено, что космогонические представления, возникшие в Древнем Иране и имевшие широкое хождение у вавилонян и халдеев, были известны и египетским жрецам, благодаря чему могли попасть в древнеегипетские тексты конца периода Нового царства (16—11 вв до н.э.).
Обычай бальзамировать трупы способствовал накоплению анатомических знаний, поскольку бальзамирование было сопряжено с извлечением внутренних органов и головного мозга. Однако многовековая практика бальзамирования не привела древних египтян к созданию сколько-нибудь стройной системы анатомических представлений. Судя по текстам медицинских папирусов, древнеегипетским врачам были известны лишь отдельные внутренние органы, в т.ч. сердце, головной мозг, печень, а также сосуды. Основным органом считалось сердце, ему приписывались функции мышления и чувств. Другие народы Древнего Востока уже во 2—1 тысячелетии до н.э. считали мышление функцией головного мозга. По-видимому, древние египтяне имели представления о движении крови в связи с деятельностью сердца. Они считали, что от сердца отходят 22 сосуда, которые направляются ко всем частям тела. Врач, «касаясь головы, затылка, рук, ладони, ног, везде касается сердца, ибо от него направлены сосуды к каждому члену», — говорится в папирусе Эберса.
Начиная с эпохи Древнего царства в Египте существовала медицинская школа «Дом жизни». Медицинскую подготовку юноши получали также в школах и храмах Гелиополиса и Саиса, Мемфиса, Фив. В стране не было равенства в рангах, дознаниях и материальной обеспеченности врачей. Из папирусов хорошо известен тип врача высшей категории — врача-жреца. Основная же масса врачей Египта вербовалась из вольноотпущенников или рабов. Нередко они состояли на службе у врачей-жрецов. Еще в период Древнего царства существовали лечебники. К концу Среднего царства (21—18 вв. до н.э.) относится появление своеобразного свода знаний по лечебной диететике, а также по женским болезням и лечению животных.
Наряду с медицинским образованием и медицинской литературой в Древнем Египте существовали и некоторые формы организации медицинской помощи. В частности, известно, что не позднее 3 тысячелетия до н.э. в древнеегипетской армии была создана медико-санитарная организация. При храмах, по-видимому, впервые в истории человечества были выделены специальные помещения (типа стационаров) для увечных, слепых и хронических больных. Не исключено, что именно у египтян древние греки заимствовали идею организации стационаров при храмах. В крупных городах имелись специальные дома для родовспоможения.
В папирусе Эберса, посвященном главным образом вопросам частной патологии, описано 250 заболеваний различных органов и частей тела и 877 способов их лечения. В частности, есть подробное описание симптоматики кровотечений, слоновой болезни, заболеваний желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и др. Древнеегипетские врачи умели пользоваться различными диагностическими приемами: осмотром для выявления изменений формы и окраски наружных частей тела, кожи, волос, ногтей; ощупыванием для установления отклонений положения, формы, напряжения и температуры органов брюшной и грудной полостей, конечностей и др. Древнеегипетские врачи знали стадию кризиса при острых заболеваниях, считали критическими 10-й день от начала болезни.
В древнеегипетской М. существовала специализация врачей: были специалисты по внутренним, кожным, глазным, желудочно-кишечным («утробные врачи») болезням, по хирургии, акушерки и др. Большое внимание уделялось глистным инвазиям, О развитии зубоврачебного искусства свидетельствуют обнаруженные у мумий (3 тыс. лет до н.э.) зубы, прикрепленные к другим зубам золотой проволокой, челюсти, просверленные при операции. Античные авторы считали Египет родиной учения о кожных болезнях. В древнейших памятниках письменности приводятся описания кожных сыпей и других симптомов различных заболеваний кожи: чесотки, карбункулов, рожи, проказы и др. Древний Египет считают родиной косметики. Дошедшие до нашего времени прописи свидетельствуют, что древнеегипетские косметические средства обладали высокой стойкостью, не раздражали кожу, а в ряде случаев оказывали противовоспалительное и фотозащитное действие.
Для лечения переломов древнеегипетские врачи применяли нечто подобное современным шинам, лонгетам и даже гипсовым повязкам (бинтовые полоски из холста погружались перед наложением в алебастр или затвердевающие смолы). Известно, что в Древнем Египте производили ампутацию конечностей, трепанацию черепа, операции на позвоночнике, органе слуха и др. Изготавливались близкие по форме к современным металлические хирургические инструменты: ланцеты, пинцеты, ножи, ножницы и т.д. При операциях использовались обезболивающие средства. Имеются указания, что в Древнем Египте была впервые применена перевязка кровоточащих сосудов. Не исключено, что врачи Древнего Египта осознавали в какой-то мере опасность инфицирования раны и пытались бороться с воспалительными явлениями, прикладывая к ране листья ивы.
О знаниях древних египтян в области акушерства и гинекологии свидетельствует папирус из Кахуна (2200—2100 или 1850 гг. до н.э.). В нем описаны признаки маточных кровотечений и лечебные меры при них, а также при нарушениях менструального цикла, некоторых воспалительных заболеваниях женской половой сферы и молочных желез. Наряду с ошибочными представлениями (например, египтяне считали, что матка открывается вверх) в медицинских папирусах содержалось немало рациональных рекомендаций. Например, в качестве противозачаточного средства рекомендовалось вводить во влагалище листья акации (в настоящее время выяснено, что акация содержит вид камеди, которая при растворении образует молочную кислоту). Для установления беременности проводилась проба, выявлявшая ускорение прорастания пшеницы и ячменя под влиянием мочи беременной женщины. Именно этот прием под названием «проба Мангера» был предложен для диагностики ранних сроков беременности в начале 20 в.
В Египте издревле имелись акушерки, принимавшие роды на дому. Египтянки рожали сидя. Примитивный родильный стульчик сооружался из кирпичей, сложенных таким образом, чтобы между бедрами женщины и полом было достаточное пространство для выхода ребенка. Проводилась обработка новорожденного: его обмывали, отрезали пуповину и клали на ложе из кирпичей. Предположение о том, что египтянам была известна операция кесарева сечения, не находит подтверждения у современных исследователей, однако несомненно, что египтяне умели извлекать плод из утробы умершей матери. Имеются сведения о применении обезболивающих средств при родах.
Употреблявшийся в Древнем Египте арсенал лекарственных средств был чрезвычайно разнообразен; многие из них продолжают применяться до настоящего времени. В папирусе Эберса упоминаются препараты из мака, можжевельника, граната, акации, льняного семени, укропа, тмина, чеснока, сельдерея, ромашки, полыни, тамариска, камыша, лотоса и др., а также такие вещества растительного происхождения, как уксус, вино, дрожжи («ил пива»), скипидар, мирра (смола аравийского мирта), касторовое масло, кедровое масло, белена, стрихнин. Из минеральных веществ в лечебных целях использовались сера, селитра, купорос, различные соли и кислоты, соединения сурьмы, малахит, ярь-медянка, микродозы меди («удар медного молотка»), алебастровый порошок, уголь в виде «сажи со стен над очагом», мемфисский камень, квасцы, поваренная соль и др. Из средств животного происхождения применялись женское молоко и молоко коз, бычья и рыбья желчь, мед, жиры, мозг, печень, кровь различных животных и др. Кроме лекарственных средств местного происхождения египтяне пользовались средствами, привозимыми из Китая, Индии,Центральной и Южной Африки. Сохранились списки привозных лекарственных средств, служивших объектом международной торговли.
Были распространены разнообразные лекарственные формы: припарки, примочки, пластыри, мази, отвары, пилюли. При этом пилюли для женщин приготовлялись с добавлением меда, для мужчин — без меда. Применялись лекарства сложного состава, иногда включавшие до 30 компонентов; предписывалось употребление «утром», «вечером» и т.д.
В городах существовали учреждения для хранения и продажи лекарственных средств. Такие городские аптеки-склады имели вид круглых, наполовину находившихся в земле колодцеобразных помещений, в которые по радиусам вели длинные узкие ходы. Для хранения лекарств служили углубления, выдолбленные в стенах наподобие ячеек.
Образ жизни египтян, по свидетельству Диодора, был так целесообразно урегулирован, что можно было видеть в нем не плод законодательного творчества, но работу дельного врача. сумевшего разработать его согласно правилам науки о здоровье. Действительно, в образе жизни и гигиенических предписаниях, которыми руководствовались древние египтяне, было много рационального. Так, рекомендовалось рано вставать, ежедневно заниматься гимнастикой и обтирать тело прохладной водой. Поощрялись занятия спортом (греблей, плаванием, нырянием, стрельбой из лука, метанием копья); гимнастика и некоторые виды спорта входили в число обязательных занятий во всех древнеегипетских школах. Предметом особого внимания были забота о чистоте тела и уход за кожей. Законодательством регламентировались правила погребения умерших, надзор за качеством продаваемых пищевых продуктов (в частности, осмотр мяса).
Уделялось внимание и санитарному благоустройству городов; в кварталах знати имелись водопроводы, канализация, бассейн и др. Еще в додинастический период была осушена огромная площадь нильской дельты. В эпоху Древнего и Среднего царств вся страна покрылась сетью дренажных канав. Осушение осуществлялось также путем насаждения деревьев с мощной влаговсасывающей корневой системой.
Древнеегипетская М. оказала большое влияние на развитие М. других народов. Так, известно, что в Древнем Иране большим авторитетом пользовались египетские врачи и египетская медицинская литература. Некоторые общепатологические положения (в частности, учение о пневме), приемы диагностики, консервативного лечения были заимствованы и развиты античными врачами, а затем врачами Византии, стран Арабского халифата. Средней Азии, а также Западной Европы периода раннего средневековья.
Медицина в Месопотамии. Междуречье Тигра и Евфрата, или Месопотамию (как называли эту территорию древние греки), наряду с Египтом считают колыбелью земледельческой культуры. Приблизительно с 5 тысячелетия до н.э. юг Месопотамии населяли шумеры; не позднее 4 тысячелетия до н.э. на севере Месопотамии жили субареи и хурриты — племена, антропологически близкие древнейшему населению Армении, в частности урартам. Не позднее 3 тысячелетия до н.э. началось усиленное проникновение в Месопотамию кочевых семитских племен (аккадцев, ассирийцев и др.), которые к концу 3 — в первой половине 2 тысячелетия до н.э. добились на этой территории полного преобладания. В первой половине 2 тысячелетия до н.э. в результате смешения шумеры и аккадцы слились в единую этническую группу (аккадский народ); субареи и хурриты, по-видимому, смешались с семитскими племенами ассирийцев.
Хотя шумеры не являлись коренным населением Месопотамии, с их деятельностью связывают возникновение и развитие здесь первых земледельческих цивилизаций. Шумерам принадлежит создание ирригационных сооружений на юге Месопотамии, превративших ее в край исключительного плодородия, внедрение земледельческих орудий, гончарного круга, колесного транспорта и др., строительство первых городов на искусственных холмах. Шумерами была изобретена клиновидная письменность (около 3000 лет до н.э.), шумерские мифы составили сюжетную основу фольклора и литературы многих народов, в частности библейских сказаний. Кочевые семитские племена, находившиеся ко времени проникновения в Месопотамию на значительно более низком уровне материальной и духовной культуры, восприняли культурные традиции шумеров, хурритов и субареев и в дальнейшем развили их.
Материальная культура народов Древнего Междуречья достигла сравнительно высокого уровня. В начале 3 тысячелетия до н.э. окончательно вышли из употребления каменные орудия, в середине 3 тысячелетия до н.э. начала развиваться металлургия: были известны литье, ковка, чеканка. Интенсивно велось строительство, основным материалом для которого служил, как правило, необожженный кирпич. Во 2 тысячелетии до н.э. были введены медные панцири, осадные орудия, строились каменные и наплавные мосты. В 1 тысячелетии до н.э. в Ассирии и Вавилоне появились железные орудия, в ремесле стали использовать алмазное сверло. На рубеже 2 и 1 тысячелетий до н.э. для орошения были созданы водоподъемные колесо и «бесконечная» веревка с кожаными ведрами.
К концу 3 тысячелетия до н.э. сформировались шумеровавилонская математика. Шумеры изобрели шестидесятиричную систему счета, на основе которой были составлены таблицы исчисления квадратов и кубов чисел, а также их квадратных и кубических корней и др. Вавилоняне знали «теорему Пифагора», определяли объем различного рода пространственных тел, широко практиковали черчение планов, создали систему мер и весов, применявшуюся повсеместно в Передней Азии. Шумеровавилонская математика была воспринята древними греками, а отдельные ее элементы (деление часа на 60 мин, минуты на 60 с, круга — на 360 радусов) сохранились до нашего времени.
Значительные успехи были достигнуты в области астрономии: из массы звезд стали выделять планеты и начали наблюдение за их движением. не позднее 17—16 вв. до н.э. был принят единый (вавилонский) лунный календарь, в Вавилоне была введена семидневная неделя. В Месопотамии зародились и астрологические представления, оказавшие влияние на общепатологические взгляды вавилонских, ассирийских и особенно халдейских врачей.
Средоточием научных занятий и обучения в Месопотамии до середины 2 тысячелетия до н.э. стали светские школы-академии, служившие главным образом для подготовки писцов, позднее — храмовые школы, подготовка врачей осуществлялась исключительно в школах при храмах.
Практическая потребность способствовала накоплению определенных знаний в области филологии. Так, в связи с тем, что шумерский язык выходил из живого употребления, а бытовым языком стал аккадский, создавались пособия для изучения шумерского языка (списки слов и специальных терминов, в т.ч. ботанических, зоологических, медицинских и др.). В начале 2 тысячелетия до н.э. появились шумероаккадские общие и терминологические словари. Склонность к систематизации знаний и словарному творчеству отчасти проявилась и в медицинской деятельности. Так, при раскопках Ниппура были обнаружены клинописные тексты (на глиняных табличках), представляющие собой своеобразный справочник, содержащий перечень лекарственных средств, а также сведения о способах их приготовления и применения. Эта самая древняя «фармакопея» написана на шумерском языке не позднее второй половины 3 тысячелетия до н.э. Известны также попытки группировать заболевания; месопотамские «номенклатуры болезней» строились на основе общности клинических проявлений заболеваний или вызывающих их причин. В особую группу выделялись тифоидные болезни, или болезни от ветров, и болезни нервно-душевные. Большую группу составляли болезни половой сферы. Упоминаются болезни от укусов ядовитых змей, заболевания, похожие на трахому, трофические язвы. слоновость, разные формы проказы.
Источники, по которым изучают медицину Месопотамии, разнообразны, некоторые восходят к 4 тысячелетию до н.э. Особую ценность имеют глиняные плитки из библиотеки Ашшурбанипала (668—631 гг. до н.э.) в Ниневии, глиняные таблицы, открытые в Ниппуре, таблицы хозяйственного значения, извлеченные из архивов дворца Мари (2 тыс. лет до н.э.). Важнейшим из памятников является кодекс Хаммурапи — клинопись на базальтовом камне (18 в. до н.э.).
Большое значение в жизнедеятельности организма придавалось астральным влияниям, а также циркулирующим внутри организма жидкостям, соотношению которых, по представлениям месопотамских врачей, во многом определяло состояние здоровья и болезни. Ведущая роль отводилась крови, олицетворявшей у вавилонян и ассирийцев «жизненную сущность». Они подразделяли ее на «кровь дня» (артериальная) и «кровь ночи» (венозная). Процессы, происходящие в организме, сравнивались с событиями в окружающей природе: наполнение тела кровью — с увлажнением земли реками, теплота организма — с воздействием солнца на прорастание хлебов, дыхание — с ветрами и т.п. Существо болезни, ее причина и особенно прогноз определялись не столько в связи с установлением диагноза, сколько на основе астрологических данных и гаданий на внутренностях жертвенных животных. Кроме влияния звездной эманации в качестве причины болезни предполагалось вселение демонов, которые подстерегали человека на каждом шагу. Характерно, что все эти мистические представления уживались с вполне рациональными взглядами на причины отдельных заболеваний. Например, вавилоняне и ассирийцы знали о связи вспышек инфекционных болезней с эпизоотиями.
Терапия представляла собой смесь магических и мистических действий с рациональными приемами. Причем магическому началу месопотамские врачи придавали большее значение, чем врачи Древнего Египта. Для отпугивания демона, вызвавшего болезнь, широко использовали амулеты, талисманы, идолы добрых духов, дощечки с молитвами и заклинаниями у дверей жилища больного. Помимо молитв и заклинаний применялись также и ритуальные действия. Так, лечение (прием лекарственного средства и т.п.) нередко сопровождалось такими ритуальными действиями, как разматывание клубка шерсти, рассыпание и сбор в кучку зерен, сковывание больного и освобождение его от оков. Большую роль в назначении лечения играли положение светил и сопоставление его с данными специального астрологического календаря; определялись счастливые и несчастливые дни начала лечения, операции, родов. Вместе с тем шумерская и вавилоноассирийская М. располагала большим арсеналом лекарственных средств (различные лекарственные растения, масла, нефть и т.д.); при болезнях половой сферы применяли серебро, в глазной практике — свинец. Лекарства использовали в виде растворов, отваров, микстур, мазей, паст. Назначали втирания, компрессы, лекарственные ванны, клизмы, кровососные банки, кровопускания, массаж. Наиболее распространенными средствами были вода и масла. Лекарства применялись натощак или во время еды. Имелась и специальная посуда для приема лекарств, например поильники с решетчатой перегородкой для задержания твердых взвесей.
Диагностика, по-видимому, носила более рациональный характер, чем терапия и прогностика. Во всяком случае, в медицинских источниках содержится описание различных симптомов и весьма тонких диагностических наблюдений. Особое значение придавалось состоянию рта, носа, губ, длине и расположению волос на голове, особенностям движений и положению тела в покое, крикам, судорожным состояниям, различным проявлениям половой жизни. Визуально исследовали кровь, мочу, молоко кормящих женщин. Известно о существовании своеобразного диагностическою справочника, который по своему характеру напоминал современные ботанические и зоологические определители.
Дифференциация специальностей наметилась в месопотамской М. еще в самые ранние периоды существования врачевания. «Медицина ножа» олицетворяла хирургию, «травная медицина» — главным образом внутренние болезни. Врачи — представители высшего жреческого сословия — занимали привилегированное положение. Врачи из вольноотпущенников и рабов не допускались во врачебно-жреческую корпорацию. «Непосвященный да не прочтет» — такой запретительной формулой нередко снабжались начальные тексты глиняных медицинских табличек. Медицинская часть кодекса Хаммурапи, регламентирующая правовое положение врача, плату за лечение, наказание за врачебные ошибки, относилась главным образом к врачам-хирургам из рабов. По жестоким законам того времени кодекс сулил расправу неудачникам-хирургам — выкалывание глаз, отрезание пальцев, отсечение руки, если невылеченным пациентом оказывался господин. Хотя врачей низших сословных рангов называли иногда господами ножа, это лишь характеризовало хирурга как мастера своего дела. Операции, производившиеся «господами ножа», включали вскрытие глубоких нарывов, сращивание костей при переломах, удаление поверхностных опухолей, ампутации, трепанацию черепа. Существовала низшая категория хирургов (типа фельдшеров) — так называемые азу, т.е. «занимающийся малой хирургией». Упоминаются также зубные врачи, врачи, «помогающие при родах», ветеринары, часто глазные врачи.
Археологические материалы и памятники письменности свидетельствуют о существовании гигиенических навыков и проведении определенных санитарных и противоэпидемических мер, носивших выраженный классовый характер. Обнаруженные археологами сооружения, относящиеся к 3 тысячелетию до н.э. и к более раннему периоду, позволяют судить о благоустройстве жилищ в городах. В Мари (около г. Халеб) раскопаны кварталы города, в котором хорошо сохранились остатки тротуаров, канализации (большого вертикального коллектора). Система водостоков уходила на глубину до 12 М. В одном из богатых домов обнаружены ванные комнаты, уборные, пол в жилом помещении был покрыт слоем гипса. Из хозяйственных построек санитарного назначения заслуживают внимания кухни, сыроварни, погреба, кладовые для хранения запасов пищи.
Жилища в беднейших кварталах размещались скученно. Люди ютились в крошечных домах из сырцового кирпича с плоскими крышами и глухими стенами; такое жилье освещалось через дверные проемы со двора. Вся утварь состояла из глиняной посуды. Пища была крайне скудной и сводилась к бобам, чесноку, ячменным лепешкам. Условия, в которых жили рабы, были еще более тяжелыми. В документах рабы часто именуются людьми, «глаза не имеющими». Их содержали в особых казармах («домах узника»). Отдыхом для рабынь служили лишь дни менструации, когда женщина считалась нечистой. В гробах погребали только людей обеспеченных, неимущих опускали непосредственно в землю, покрывая сверху просмоленными циновками.
Для борьбы с заразными болезнями применяли сжигание вещей больных и умерших, изоляцию больных вне черты населенных пунктов, закрытие границ государства; последняя мера отрицательно сказывалась на торговле, вызывала смуты, народные восстания. По светилам определяли порядок и маршруты эвакуации здоровых людей в благополучные районы. Существовали способы угадывания по цвету воды в каналах и реках степени вредности ее для человека и животных, что позволяло предупреждать эпидемии желудочно-кишечных заболеваний. Содержание прокаженных в населенных пунктах регламентировалось правилами, записанными в кодексе Хаммурапи. Бешеных собак, свиней сажали на цепь во дворе владельца, а затем убивали; контроль за этим возлагался на всех жителей населенного пункта.
Месопотамская М., как ее мистическая сторона, так и рациональная, оказала существенное влияние на развитие медицины Сирии, Иудеи, Финикии, Ирана, Греции.
Медицина в Древнем Иране. Древнейшие следы заселения территории Ирана относятся к мустьерскому времени. В 7—5 тысячелетии до н.э. в отдельных районах началось возделывание зерновых культур, в 4—3 тысячелетии до н.э. появились первые поселения оседлых земледельцев и скотоводов.
В течение 2 тысячелетия до н.э. на территорию Ирана стали проникать индоевропейские племена ариев, язык которых в 1 тысячелетии до н.э. стал преобладающим. К 7 в. до н.э. западные районы Ирана входили в состав Ассирийской державы. В 673—672 гг. до н.э. в северозападной части Иранского нагорья возникло государство Мидия. В 616—605 гг. до н.э. Мидия в коалиции с Вавилонией разгромила Ассирийскую державу. С этого времени началось возвышение Мидийского государства, занявшего большую часть территории Ирана, а также часть территории современных Армении, Грузии и Азербайджана. В 550 г. до н.э. власть на территории Ирана перешла в руки персидской династии Ахеменидов. К концу 6 в. до н.э. государство Ахеменидов стало крупнейшей мировой державой, простиравшейся от берегов Инда на востоке до Эгейского моря на западе и от Армении на севере до первого порога Нила на юге.
Большое значение для изучения культуры и медицины Древнего Ирана помимо данных археологии имеет Канон Авесты — сборник гимнов и религиозных индоевропейских текстов ахеменидского и доахеменидского времени, составлявшийся в течение почти тысячелетия. Двадцатая книга этого канона «Вендидат» содержит некоторые данные о древнеиранской медицине. Интерес представляет и сборник поучительных рассказов «Калила и Димна», который по легенде был записан молодым врачом-иранцем Барзавенхом в эпоху Сасанидов (династия иранских шахов, существовавшая в 224—651 г. н.э.) в Индии. Сборник содержит большие число афоризмов о народной М., врачах, болезнях, способах их лечения и предупреждения. Геродот, Плиний Старший и другие античные авторы в своих трудах приводят сведения о медицинской организации в сухопутной армии и на оплоте, созданной при Ахеменидах.
Вопрос о религиозных представлениях народов Древнего Ирана остается решенным не до конца. Большинство исследователей полагают, что примерно до 4—3 вв. до н.э. единых религиозных представлений у народов Древнего Ирана не было и ведущая роль принадлежала местным культам. С конца 7 в. до н.э. началась проповедь нового религиозно-философского учения — зороастризма (по имени основателя Заратуштры, греческое Зороастр: жил в 7—6 вв. до н.э.: по другим источникам — в 12—10 вв. до н.э.). Начиная с 3 в. до н.э. зороастризм стал единой религией народа Ирана, провозгласившей веру в верховное божество Ахурамазду (Ормазд). Ахурамазда — творец мира, единственный всемогущий бог добра, олицетворяющий свет, жизнь и правду. Ему противостоит верховное божество зла Ангро-Майнью (Ахриман), который олицетворяет мрак, смерть, болезнь. Человек создан Ахурамаздой, но свободен в выборе между добром и злом, а потому доступен воздействию духов зла. Он должен бороться против зла с помощью благих мыслей, благих слов и благих дел (триада зороастрийской этики). При этом аскетизм отвергался как фактор, ослабляющий тело человека и способствующий победе злых духов. Бытие мыслилось как постоянная борьба двух начал. Этика зороастризма, включавшая идею зависимости миропорядка творчества и справедливости в мировой борьбе добра и зла от свободного выбора человека, его активного участия в этой борьбе на стороне добра, а также отказ от непротивления злу и нирваны, стремление к самосовершенствованию, наложила печать своеобразия на культуру иранских народов. оказала большое воздействие на иранскую медицину
Древние иранцы создали одну из первых натурфилософских систем: представление о зависимости существования человека от четырех стихий — солнца, земли, воды и воздуха и четырех влаг организма — алой, черной, белой крови и желчи. Причем соки организма находятся то в состоянии борьбы, то поддерживают друг друга, что и дает начало здоровью или болезни. Важное место в общебиологических представлениях древних иранцев имело учение о свете, который они подразделяли на видимый и невидимый. Видимый свет ощутим, он исходит в природе от Солнца и огня. Однако более важную роль в жизнедеятельности играет невидимый свет. Он не ощутим, исходит от растительных и животных организмов и дает тепло организму. Если организм обладает способностью получать достаточное количество такого света, то в нем образуется тепло и человек уравновешен и здоров («добрый»). Если же человек поглощает мало света, то он близок к злу и становится во всех отношениях «нехорошим». Центром распределения тепла считали желудок. Важная роль отводилась также печени, которая, по мнению древних иранцев, была местопребыванием страстей.
Изучение Авесты показывает, что ее создатели имели некоторые, хотя и весьма скудные. представления о строении и функциях человеческого тела. Различали три вида сосудов человека: несущие черную кровь (болезнь), несущие алую кровь (здоровье), сосуды без крови (очевидно, нервные стволы), от которых зависит вся жизнь.
Общей причиной любой болезни считали либо козни бога тьмы Ахримана (степень тяжести болезни зависела от степени греховности человека и озлобления), либо гнев бога добра Ахурамазды, если человек ушел «от добра к злу». Сама болезнь являлась нарушением равновесия между органами. Как козни Ахримана, так и гнев Ахурамазды реализовывались через конкретные причины, которые нарушали соотношения между соками организма или способность получать достаточное количество невидимого света. Среди этих причин возникновения заболеваний на первом месте стояло переохлаждение, затем невоздержанность в пище или недоброкачественность пищи, недоедание, злоупотребление работой, отдыхом, половой жизнью, нравственное падение — грех и, наконец, гнев Ахримана, передаваемый через ядовитых животных, насекомых и червей, а также посредством теплого и холодного воздуха. В происхождении болезней и их лечении существенная роль уделялась психике: гнев подавляет аппетит, а радость его возвращает, «глубокая дума» ведет к психическим расстройствам.
Врач в Древнем Иране был окружен ореолом совершенства и мудрости. М. учились долго, главным образом по книгам. Книги носили компилятивный характер, усиленно переписывались, покупались за границей, передавались из поколения в поколение; высоко ценились египетская медицинская литература и египетские врачи. В Авесте отражено положение врача в Иране. За лечение он получал плату, размер которой зависел от социального положения и материального достатка пациента. М. определялась как искусство сохранять тело в здоровом состоянии.
Поэтому важное место отводилось предупреждению болезней: «Вырви недуг прежде, чем он коснется тебя». Далее следовали многочисленные рациональные предписания гигиенического характера: содержание в чистоте тела, одежды, дома, домашних животных, уничтожение всего гниющего, очищение одежды и предметов, находившихся в соприкосновении с больными и трупами. Рациональные элементы содержались и в предписаниях о режиме питания, семейной жизни, об отношении к беременным женщинам и кормящим матерям, в запрещении пить опьяняющие напитки и др. Учение о врачебной этике соответствовало этике зороастризма и было пронизано гуманизмом. Знание врачом приобретается только для пользы другим; он обязан использовать любую возможность для самосовершенствования. Врач должен быть вежливым, ласковым в обращении, деликатным в беседе, не поверять врачебной тайны даже самым близким друзьям.
Анализ текстов Авесты показывает, что древнеиранские врачи в практической деятельности пользовались главным образом рациональными приемами. В диагностике большое место занимали осмотр внешнего облика больного, исследование мочи и пульса. Признание недуга самим больным и откровенность пациента в беседе с врачом считались важным условием успешного лечения.
Среди представителей отдельных отраслей медицинского знания различались врачи зубные, глазные, по родовспоможению, болезням половой сферы, а также врачи, «знающие способы лечения душевных болезней». Однако, считалось, что излечение человека, у которого «погибла душа», невозможно, как и воскрешение мертвого. Была развита хирургия, или «медицина ножа». Насколько ответственной считалась хирургическая операция, показывает правило присуждения врачу права самостоятельно пользоваться приемами хирургии лишь после того, как он не менее трех раз совершит «резание» больного с благоприятным исходом. Существовал богатый арсенал хирургических инструментов. При сшивании ран широко использовались жилы животных. Применялись средства для обезболивания — вино, опий, гашиш в виде жидкостей или порошков, вдувавшихся больному мехом per rectum. В Авесте содержится подробное описание раневого шока и мер против его развития — согревание тела, покой, обильное питье.
В Авесте приводится обширный перечень болезней и их симптомов. Чаще всего упоминаются лихорадки: среди них первое место занимает малярия, осенью протекавшая в коматозной форме. Об оспе часто говорится в связи со слепотой, возникшей в результате этого заболевания, которую отличали от сумеречной слепоты (амблиопии). Типичной болезнью для низменностей страны считалась слоновость. Описываемые гнойные артриты, «проказа заднего прохода» (геморрой), трофические язвы голени подлежали хирургическому лечению.
Лекарственные средства были разнообразны. При кожных заболеваниях употребляли соль, киноварь, серу; сурьму использовали как косметическое средство и лекарство при заболеваниях глаз; свинцом лечили раны; мускус, амбру, бобровую струю назначали в качестве тонизирующих средств. Из животных средств чаще всего использовали печень, желчь, жир, мед, воск. Змеиный яд применяли как с лечебной, так и с профилактической целью. В большом ходу были местные виды лекарственных растений: финики, айва, орехи, оливковое, кунжутное масло. Из привозных средств как лекарство от различных кожных заболеваний славился сандал. Широко применялась камфора. В городах имелись специальные сады, где разводили многие ароматические растения, например базилик. При дворцах вельмож существовали помещения для хранения лекарств. Врачи жреческого сословия имели собственные кладовые, откуда лекарства выдавались больным специальными хранителями по предписаниям врачей.
Древнеиранские врачи, по-видимому, одни из первых начали проявлять интерес к профессиональным вредностям. Так, в литературе первых веков нашей эры часто приводятся описания вредностей в работе кузнеца, ходящего в черной одежде, крестьянина-земледельца, при посадке риса погружающего ноги и руки в болотную жижу, говорится, что каменотесы чаще болеют заболеваниями органов дыхания, а у дубильщиков кожи и скорняков появляются язвы и опухоли на ногах и под мышками.
Большое внимание уделялось борьбе с насекомыми и грызунами. Так, для борьбы с крысами, мышами существовал обычай одомашнивания ихневмонов (чаще мангустов). В Авесте содержатся некоторые рекомендации противоэпидемического характера. В частности, в целях предупреждения распространения особо опасных инфекций (чума) предлагалось окуривать ароматическими веществами поселения, зачумленные дома, вещи умерших. Упорная борьба велась против бешенства. Переносчиками его были преимущественно собаки, как охотничьи, так и овчарки, необходимые для охраны стад. Канон Авесты рекомендовал ветеринарам лечить животных такими же лекарствами, как и богатых людей. Из-за частых войн и походов были значительно распространены венерические болезни, и борьба с ними составляла государственную задачу. Воины предупреждались об опасности случайных половых связей с женщинами: «Мало кто, стремясь к женщинам, не покрывается срамом» (болезнью).
В 330 г. до н.э. держава Ахеменидов была завоевана Александром Македонским, после смерти которого Иран вошел в состав государства Селевкидов (312—64 гг. до н.э.) и Парфянского царства (250 г. до н.э. — 224 г. н.э.). В этот период иранская культура, и в частности иранская М., развивалась в русле эллинистической традиции на основе синтеза приобретений главным образом иранской и древнегреческой культуры. Важную роль в этот период играли и ближневосточные влияния, особенно месопотамские. О состоянии М. этого периода, к сожалению, нет достоверных данных.
3—7 вв. н.э. — период расцвета культуры и естественнонаучных знаний в Иране. Сохранились многочисленные труды иранских ученых по математике, астрономии, ветеринарии и медицине. Широкое распространение получила позднеантичная ученость, в частности философия неоплатонизма. Иранская М. этого периода, не утрачивая ранних приобретений, ассимилировала многие достижения античной, ближневосточной и индийской М., чему способствовала деятельность медицинской школы (академии) в Гундишапуре (Джундишапуре), основанной бежавшими от религиозных преследований философами и врачами несторианцами из Эдессы (489 г.) и неоплатониками из Афин (529 г.). Эта школа, продолжавшая традиции Афинской и Александрийской академий, была крупнейшим на Востоке центром философских, естественнонаучных и медицинских знаний. По данным В.А. Эбермана (1925) и Бубекара бен Яхья (1952), гундишапурские ученые перевели на персидский, сирийский (а позднее на арабский) языки труды Аристотеля, Диоскорида, Гиппократа, Галена и других выдающихся античных ученых и врачей. В своих трудах гундишапурские врачи использовали труды как античных авторов, так и иранских, индийских, китайских врачей. Т.о., по словам бен Яхья, гундишапурская школа «стала центром культурных обменов, весьма важным и соответствующим идеям греков, индийцев, сирийцев и т.п. Этот сплав античных, ближне- и средневосточных, индийских и даже китайских медицинских традиций обусловил своеобразие медицины Ирана и Средней Азии 1 тысячелетия н.э. и во многом предопределил содержание М. арабских халифатов.
Медицина в Древней Индии. Индия — один из древнейших очагов цивилизации. Народы, населявшие долину р. Инд, в начале 3 тысячелетия до н.э. создали оригинальную культуру, которая не уступала культуре Древнего Египта и государств Месопотамии. Археологические исследования показали, что города, построенные не позднее 3 тысячелетия до н.э. (Хараппа, Мохенджо-даро), отличались высоким уровнем строительства и санитарного благоустройства. Канализационная система Мохенджо-даро была наиболее совершенной на территории Древнего Востока, некоторые гидротехнические сооружения явились прототипом современных конструкций. В 3 тысячелетии до н.э. была создана иероглифическая письменность, которая до настоящего времени не расшифрована. Были известны плавка, ковка и литье металла. Многие орудия производства и оружие изготовлялись из бронзы и меди.
Во второй половине 2 тысячелетия до н.э. началось проникновение в Индию племен так называемых ведических ариев, занимавшихся скотоводством и земледелием: у них существовала частная собственность и выделилась племенная аристократия. В первой половине 1 тысячелетия до н.э. в Северной Индии возник ряд рабовладельческих монархических государств, свободное население которых подразделялось на четыре сословия: брахманов, кшатриев, вайшиев и шуда — прообраз будущего кастового деления. Первые два сословия занимали привилегированное положение. К середине 4 в. до н.э. среди государств Северной Индии выделилась Магадха, превратившаяся в могучую рабовладельческую деспотию и завоевавшая почти всю долину р. Ганг. В 4 в. до н.э. часть долины р. Инд вошла в состав персидской державы Ахеменидов. В 4—5 вв. н.э. Магадха под властью династии Гуптов достигла наивысшего расцвета. В 2—4 вв. н.э. в Индии начали складываться феодальные отношения.
В духовной жизни древнеиндийского общества большое место занимала религия, существовавшая в форме местных культов и долгое время сохранявшая верования, обряды и мифологические представления, свойственные доклассовому обществу. Сохранение доклассовых форм сознания, политеизм местных индийских религий, длительное отсутствие единой идеологии обусловили возникновение и существование различных религиозно-философских учений.
Самые ранние свидетельства философской мысли Древней Индии встречаются в Ведах (конец 2 — первая половина 1 тысячелетия до н.э.). Для ведических гимнов, отражающих мировоззрение первобытного общества, характерны наивный реализм, восхваление сил, олицетворяющих природу. Более высокой ступенью развития философской мысли являются Упанишады. В них основное внимание уделяется вопросу о субстанции бытия. Древнеиндийская философия представляет собой сложную смесь различных, иногда противоречивых учений и взглядов. Однако в основе большинства из них лежат представления о первичной сущности, мировой душе, которая в процессе саморазвития побуждает основу всего существующего — первоматерию к созданию материального мира, в т.ч. человека со всем многообразием его жизнедеятельности. При этом тело человека рассматривается лишь как внешняя оболочка души, являющейся частичкой или воплощением мирового духа. Душа человека вечна и бессмертна, но т.к. человек слишком привязан к земному существованию, то его душа все же отлична от абсолютного духа, поэтому человек несовершенен. Достичь тождества души и мирового духа, т.е. истинной природы человека, возможно лишь при условии полного воздержания от активного участия в земной жизни, отказа от повседневных забот и освобождения души от связей с земным миром. Только в этом состоит смысл жизни человека. Однако познание этого тождества недоступно для обыкновенного ума и может достигаться лишь путем длительного самосозерцания и откровения. Этому по существу служит йога, являющаяся составной частью всех древнеиндийских религиозно-философских систем. Дополняя их практической системой различных поз и положений тела, йога разрабатывает способы и приемы «обуздания» мыслей и желаний, отвлечения от чувственного мира, сосредоточения. В состоянии такого «очищения» человек якобы осознает отличие своего «я» от реального мира и освобождается от этого мира. Тем самым йога позволяет осуществить связь, единение индивидуальной души с мировым духом.
Практика и техники Йоги берут начало в первобытной магии с ее представлениями о таинственной жизненной энергии (кундалини-шакти), которая будто бы подобно свернутой змее дремлет в одном из нервных центров нижней части спинного хребта человека, но посредством выполнения определенных упражнений (асан) может быть разбужена. Разбуженная энергия поднимается по жизненным дыхательным каналам (пранам) в верхние части тела и покидает его, вследствие чего человек приобретает сверхъестественные силы. Наряду с мистическими элементами и представлениями система психофизических упражнений йоги содержит и рациональные начала. Она вобрала в себя народные наблюдения (например, о роли самовнушения, и благотворном воздействии систематических физических упражнений и о зависимости духовного состояния от телесных факторов) и выработанные на основе этих наблюдений приемы. Эти рациональные психофизиологические элементы йоги, имеющие многовековую традицию и позволяющие поддерживать жизнедеятельность организма в условиях дефицита жизненных средств, способствовали распространению ее идей в индийском обществе и сохранению их на протяжении многих веков, вплоть до настоящего времени.
1 тысячелетие н.э., особенно 4—6 вв., — эпоха расцвета духовной культуры в Индии. Ученые этого периода внесли весомый вклад в развитие математических и астрономических знаний. Была создана десятиричная позиционная система исчисления, составлена таблица синусов для вычисления местонахождения планет, была известна разница в длине дня и ночи на различных широтах земного шара и др. Индийский математик и астроном Ариабхата (родился в 467 г.) впервые высказал мысль, что Земля — шар, вращающийся вокруг своей оси. Многие математические и астрономические труды индийских ученых позднее были переведены на арабский язык. К 5 в. н.э. появились первые труды, посвященные теории и практике алхимии.
Источниками изучения древнеиндийской М. являются данные археологических исследований, а также памятники письменности, среди которых ведущее место занимают веды, особенно Аюрведы. Являясь сборниками гимнов, молитв, веды имеют значение и как свод конкретных знаний о природе. Из эпических произведений большой интерес представляет поэма «Махабхарата» — энциклопедия народных преданий. В «Панчатантре» — древнем сборнике рассказов и басен упоминаются лекарственные средства, болезни, говорится о врачах, различных способах лечения болезней. В юридическом памятнике — чаконах Ману (в редакции, датируемой 2 в. до н.э. — 2 в. н.э.) содержатся положения санитарного законодательства, высказываются суждения об оказании врачебной помощи населению, приводятся правила общественной и личной санитарии и гигиены. Особую группу источников составляют записи участников походов Александра Македонского (327—325 гг. до н.э.).
Господство культовых традиций (о греховности убоя животных, вскрытия человеческих трупов) неблагоприятно сказывалось на приобретении знаний о строении человеческого тела. В дальнейшем анатомирование трупов перестало преследоваться, но способ его был крайне несовершенным. Тем не менее в Аюрведе описаны многие анатомические образования: органы, системы с перечислением отдельных костей, связок, сосудов, различается головной и спинной мозг. Центром жизни считается пупок, от которого берут начало сосуды, несущие кровь, воду и слизь. В «классическом» периоде (1 тысячелетие н.э.) исследования по анатомии, считавшейся «преддверием медицинской науки», накапливались настолько интенсивно, что фонд анатомических сведений позволил врачу Бхаскаре Бхатте написать большой трактат по нормальной анатомии «Сариранадмини». Это сочинение, написанное раньше, чем «Канон врачебной науки» Ибн Сины, получили распространение и у арабов.
Возникновение болезни объяснялось неравномерным соединением пяти (по другим данным, трех) соков человеческого тела (в соответствии с пятью стихиями мира — землей, водой, огнем, воздухом и эфиром). Гармоническое сочетание их считалось условием, без которого не бывает здоровья. Среди причин, порождающих болезни, важное значение придавалось погрешностям в пище, пристрастию к вину, физическому перенапряжению, голоду, перенесенным заболеваниям. Утверждалось, что на состояние здоровья влияют изменения климата, возраст, настроение больного. Наиболее уязвимы люди преклонного возраста, они заболевают даже легче грудных детей. Тоска, печаль, гнев, испуг — «первые ступени на лестнице любой болезни».
В ведах описаны симптомы малярии, сибирской язвы. Были известны болезни, идентифицируемые теперь как кала-азар, слоновость, гемоглобинурийная лихорадка. Заболевание, распространенное в долинах больших рек и уносившее в могилу несметное число людей в жаркое время года (холера), считалось одним из самых страшных. Было известно, что чума — результат эпизоотии среди крыс, что бешенство у человека возникает от укуса бешеным животным (собакой, шакалом), а проказа — итог длительного контакта здорового человека с больным. Частые укусы ядовитых змей нередко со смертельными последствиями рассматривались как неотвратимый бич судьбы. В Древней Индии умели различать некоторые виды паразитических червей. С большой тщательностью описаны кожные, мочеполовые болезни. Индийские врачи учили, что почти все кожные болезни, особенно хронические, свидетельствуют о патологических процессах внутренних органов.
Терапия была основана на учении о соках организма. Для приведения их в первоначальную гармонию обращались к средствам очистительным, раздражающим, рвотным, чихательным. Этой же цели служили кровопускания, прижигания, техника которых была высокой.
Индийская M. исходила из положения, что гигиенические предписания не уступают по силе воздействия лечебным средствам. Больным рекомендовалась умеренность во всем: правильное применение лекарственных средств, соблюдение правил личной гигиены (чистота тела, волос, постели). Пища должна соответствовать вкусам и привычкам, позволительно иногда назначать и крепкие напитки, если к ним имеется длительная привычка. Надо чаще совершать с больным прогулки, предоставляя ему возможность созерцать ласкающие взор ландшафты. Чтение больному, находившемуся в постели, легких увлекательных рассказов, слушание им приятного пения птиц, пребывание в обществе поющих юношей и красивых молодых женщин — все это, примененное в меру, способствует «укорочению нити физических страданий», скорейшему излечению.
Первоначальной формой медицинской подготовки являлись школы при храмах и монастырях, где юноши обучались под руководством сведущих в медицине служителей культа. Дальнейшее образование получали в высших школах Таксила, Бенареса и других культурных центров Древней Индии. Ученый-врач пользовался большим почетом. По преданию Будда предпочитал лечиться у врачей, окончивших Таксильскую школу; Сушрута окончил Бенаресскую медицинскую школу. Преподавание вели наставники из высшего сословия врачей — вайдша, которым разрешалось обучать одновременно не более 3—4 учеников. От наставника требовались не только основательные знания, но и высокие нравственные качества. Ученики должны были иметь хорошее происхождение (высокое кастовое положение родителей), «молодость, стройность, здоровье, нормальные органы чувств и скромность». Воспитание будущий врач получал в духе высоких этических требований. Его учили быть первым другом больного: «... можно бояться отца, друзей, учителя, но не должно чувствовать страха перед врачом, ибо он для больного — отец, мать, друг и наставник». Врачу надлежало одинаково относиться ко всем больным независимо от их материального достатка и положения в обществе, за лечение брать не больше того, что необходимо для пропитания. Профессиональная ценность врача определялась степенью его практической и теоретической подготовки. Эти две стороны должны составить полную гармонию. Врач, пренебрегающий теоретическими сведениями, похож на птицу с обрезанным крылом».
Античные авторы высоко ценили индийских врачей.
В войсках Александра Македонского были врачи из Индии, где их познания расценивались не ниже познаний прославленных врачей Греции, а умение лечить последствия укусов змей стояло вне всякой конкуренции. На рубеже новой эры врачи Чарака и Сушрута объединили обширнейшие своды ведической медицинской письменности, составили к ним комментарии и дополнения. Руководства «Чарака-Самхита» и «Сушрута-Самхита» переводились в дальнейшем на арабский язык, по-видимому, врачами Гундишапурской школы.
В системе медицинских знаний важное значение придавали диагностике. При исследовании больного принимались во внимание его возраст, местожительство, физическое сложение, выяснялось все, что имело отношение к привычкам, характеру, занятиям больного. Осмотр тела производили при солнечном свете. Частоту дыхания, сердцебиения подсчитывали как в спокойном состоянии, так и после физической нагрузки (бег). Каждый врач должен был уметь пальпировать брюшную полость, определять размеры селезенки, печени с помощью линейки. Органолептическое изучение мочи, исследование пульса были обязательными компонентами в комплексе диагностических приемов,
Лечебную помощь оказывали преимущественно на дому. Некоторые врачи имели собственные амбулатории и даже стационары с запасами лекарственных средств. Во время войн организовывались сети подвижных госпиталей. Общественные стационарные учреждения типа больниц имелись в портовых городах, внутри страны стояли на центральных дорогах, нередко объединяясь с караван-сараями. Храмовые стационары и стационары при высших школах, служившие своеобразной клинической базой для подготовки врачей, оснащались соответствующим инвентарем. При них имелись библиотеки.
Хирургия почиталась как первая из всех медицинских наук. Древнеиндийские врачи умели производить лапаротомию, трепанацию черепа, ампутации конечностей, мочепузырное камнедробление, очищать и сушить раны. Был известен метод остановки кровотечения наложением лигатур. Высоким было искусство пластических операций на лице и других частях тела (индийский способ пластики). В акушерстве прибегали к поворотам на ножку, кесареву сечению. Зубоврачевание рассматривалось как важная отрасль хирургии. Хирургический инструментарий насчитывал свыше 200 наименований. В качестве перевязочного материала использовали хлопок, камбий растений; раны сшивали джутовыми нитями, полосками апоневроза, кишечника животных. Применяли общее обезболивание с помощью опия, вина, растений из семейства пасленовых. При больших операциях хирургу помогали ассистенты. Индийские хирурги были широко известны в странах эллинистического мира.
Существовало большое число лекарственных средств. Растительных лекарственных средств в Индии, по источникам того времени, насчитывалось свыше 1000. Часть из них до сих пор не изучена. Из средств животного происхождения широко употребляли молоко, жир, масло, кровь, тестикулы, желчь животных, птиц, рыб. Использовали соединения меди, железа, мышьяк, сурьму; ими прижигали язвы, лечили глазные, кожные болезни, назначали их при внутренних страданиях. Широко применяли ртуть и ее соли. Ртуть слыла панацеей: ею лечили сифилисные поражения, парами ртути убивали вредных насекомых.
Данные археологии дают достаточно полное представление о санитарном благоустройстве населенных мест. В стране было много городов с широкими улицами. Почти в каждом доме были купальни. В городище Чанху-даро (3—2 тысячелетие до н.э.) раскопаны бани, под полами которых располагались теплые трубы для обогревания. В других городах (Таксила, 6—5 вв. до н.э.) обнаружены мусорные ямы общественного пользования, а в каждом доме — уборная в виде узкой шахты диаметром до 1 М. Веды, законы Ману приводят распоряжения властей, направленные на борьбу с эпидемическими болезнями. Существовало положение об удалении прокаженных за черту города, о правилах эвакуации жителей из зачумленных городов. В крупных городах имелись специальные должностные лица, наблюдавшие за удалением нечистот и мусора, санитарным состоянием рынков, продажей продуктов питания. К нарушителям применялись строгие меры.
В юридических памятниках Древней Индии имеются положения, направленные на охрану народного здоровья. По законам Ману не разрешалось продавать беременную рабыню. Резко осуждались злоупотребления наркотиками и пьянство.
В народе в большом почете был спорт. Это подтверждается индийским эпосом: достоин похвалы тот из мужчин, который быстрее всех влезает на высокое дерево, дальше всех заплывает в море, не страшится сразиться в одиночку с опасным хищником, всегда весел, жизнерадостен, добр, могуч, ловок, любит детей и беззащитных, помогает в беде ближнему.
Богатая культура, созданная индийским народом, была воспринята народами Востока, античного мира и европейских стран. Достижения индийской М. оказали влияние на медицину Цейлона, Малайского архипелага; составляют одну из основ тибетской М. Известный китайский ученый Сюань Цзан (7 в. н.э.) много лет провел в Наландском университете. Его поразила необычайная тяга индийцев к просвещению. Китайский ученый, знаток санскрита, И. Цзин, посетив Индию в 673 г., отметил, что врачи Индии отдают должное медицинским познаниям китайцев — иглоукалыванию, прижиганиям, совершенству исследования пульса. Из Индии непосредственно и через Китай медицинская литература проникла в Тибет. В 5—7 вв. н.э. персидские врачи совершали путешествия в Индию за медицинскими книгами. В 4—6 вв. н.э. стали укрепляться связи медицины Индии с медициной народов Средней Азии, Ближнего Востока, на языки которых был переведен труд Чараки. При Гарун-аль-Раши-яе (766—809) индийские врачи работали в больницах Багдада.
Об Индии знали и в древней Руси. О ней упоминает Нестор (11—12 вв.). Разрозненные переводные литературные произведения об Индии в период Киевского государства были собраны в обширный свод «Сказания об Индийском царстве», в котором приведено много интересных сведений об индийском народе. На рынки Киева из Индии привозили краски, пряности, лекарственные средства (алоэ, панты, амбру, мускус, рвотный орешек, камфору и др.).
Медицина в Древнем Китае. Китайская культура является одной из древнейших. Еще во второй половине 3 тысячелетия до н.э. в Китае существовали земледелие и скотоводство, а в 14 в до н.э. на территории Северного Китая возникло раннегосударственное образование Инь. В эпоху Инь были развиты металлургия бронзы, производство белой керамики, создана ранняя иероглифическая письменность (конец 14 — начало 13 в. до н.э.). В 1 тысячелетии до н.э. широкое развитие получило искусственное орошение полей. В 7—6 вв. до н.э. начали складываться крупные государственные образования — царства типа восточных деспотий. В итоге беспрерывных войн выделилось царство Цинь, объединившее соседние царства в первое всекитайское государство (221 г. до н.э.). Не позднее 1—2 вв. н.э. произошел переход от чисто рабовладельческого строя к феодальному.
Для религиозных представлений было характерно сочетание элементов различных верований и религий. К 6—3 вв. до н.э. сформировались основные направления китайской философской мысли, которые в дальнейшем легли в основу официальной идеологии, религиозных и морально-этических представлений большинства населения Китая. Важнейшими из них были даосизм и конфуцианство.
В основе даосизма, возникшего в 4—3 вв. до н.э., лежит представление о наличии таинственной, не познаваемой разумом и не выразимой словами, присутствующей во всем, первопричине вселенной (дао — буквальное значение «путь»). Противопоставляя природу обществу, даосизм призывает освободиться от оков цивилизации, обязанностей, долга и возвратиться к простой, близкой к природе жизни. Одной из основных целей приверженцев даосизма было достижение активного долголетия, для чего использовались разнообразные методы, включая специальные диеты, комплексы физических и дыхательных упражнений, режим и т.п. Обеспечению долголетия служат и этические установки, сводящиеся к абсолютному отрицанию политики и морали или к самоустранению, уступчивости, отказу от желаний, борьбы и т.п. В соответствии с этим учением предпринимались и попытки поиска эликсира бессмертия, что способствовало развитию китайской алхимии.
Конфуцианство [по имени основателя, китайского философа Конфуция (кит. Кун-цзы), около 551—479 гг. до н.э.] носило выраженный этико-политический характер и с самого начала выражало интересы наследственной аристократии, считая закономерным и справедливым существование эксплуатации и социального неравенства. Основным принципом конфуцианской этики являлось понятие «жэнь» («гуманность») как высший закон взаимоотношений людей в обществе и семье. Жэнь достигается путем нравственного самоусовершенствования на основе соблюдения норм поведения (этикета), базирующихся на соблюдении почтительности и уважения к старшим по возрасту и положению, почитании родителей, преданности государю, вежливости и т.д. Постичь жэнь могли лишь так называемые благородные мужи — представители высших слоев общества. Конфуцием были обоснованы и фундаментальные положения традиционных верований китайцев: о небе как целенаправленной божественной силе, от которой зависит судьба общества и каждого отдельного жителя «поднебесной», о божественном происхождении власти государя — «сына неба», о верности подданного государю, о господстве «сына неба» над всеми народами Вселенной. В 136 г. до н.э. конфуцианство было провозглашено официальной идеологией и просуществовало в этом качестве до крушения монархии (1911).
На развитие естественнонаучных взглядов определяющее влияние оказала натурфилософия, восходящая к древним (возникшим не позднее 9—8 вв. до н.э.) представлениям о взаимодействии пассивной силы (инь) и мужской активности (ян). 'Эти идеи слились с возникшим позднее учением о взаимопревращении пяти первостихий (металла, дерева, воды, огня, земли) и были усвоены почти всеми философскими школами.
Древнекитайским ученым принадлежат многие открытия и изобретения в области естествознания и техники. В 4 в. до н.э. Ши Шэнем составлен первый в мире звездный каталог, включавший около 800 светил, в конце 1 в. до н.э. китайскими астрономами была сделана первая запись наблюдений солнечных пятен. Чжан Цан в первой половине 2 в. до н.э. нашел метод решения уравнений с двумя и тремя неизвестными; Цзин Чжоу-чан (не позднее начала 1 в. до н.э.) ввел понятие об отрицательных величинах и указал правила действий с ними. Китайским ученым принадлежат изобретения компаса (около 3 в. до н.э.), бумаги (2 в. н.э.), фарфора (3—5 вв. н.э.), книгопечатания (5—6 вв. н.э.), пороха (не позднее 10 в. н.э.). Однако в связи с известной изолированностью и замкнутостью китайской культуры, порожденными главным образом идеей исключительности и избранности китайской нации, проповедуемой официальной китайской идеологией в течение 2 тысячелетий, выдающиеся достижения китайской естественнонаучной и технической мысли не оказали существенного влияния на развитие мировой культуры. Большинство из них не было известно другим народам и позднее было заново открыто учеными других стран. Это относится в определенной степени и к достижениям китайской медицины.
Источники изучения М. Китая разнообразны; они представлены материалами археологии и памятниками письменности. Ценнейшим литературным памятником древнекитайской культуры является Сборник песен и гимнов («Шицзин»), относящийся к 11—6 вв. до н.э. В сборнике имеются стихи, характеризующие жилище, пищу, одежду, труд, семейные отношения, болезни, лекарства, индивидуальные и общественные санитарно-гигиенические традиции. В «Чжоуских ритуалах» (11—7 вв. до н.э.) упоминаются некоторые разделы М., ветеринария. Древнейшим произведением медицинской литературы, обобщившим многовековой опыт китайских врачей, является «Трактат о внутреннем» («Нейцзин», 6 в. до н.э.), состоящий из двух частей — «Простые рассказы» и «Книга чудес»; его предполагамый автор — Цинь Юэ-жень Бянь Цао. Считают, что он один из первых в Китае применил исследование пульса, отлично владел методом иглотерапии, лечил детские и женские болезни.
В соответствии со сложившимися под влиянием основных положений натурфилософии взглядами, человек представляет собой мир в миниатюре (микрокосмос) и состоит из пяти первоэлементов, которые попадают в организм с пищей. В желудке они подготавливаются к перевариванию, в тонком кишечнике превращаются в хилус, который по каналам (сосудам) попадает в сердце, где преобразуется в кровь. Эта кровь составляет пассивное начало (инь), она неподвижна, холодна, густа и черна до тех пор, пока в нее из легких не проникнет воздух, проталкиваемый в сердце при дыхании и создающий активное начало (ян). После этого кровь становится горячей и светлой, приходит в движение, направляется ко всем органам и питает их. В китайских источниках впервые упоминается о замкнутой системе кровообращения. Так, в «Нейцзинь» записано: «кровь... находится в сосудах... Сосуды сообщаются между собой по кругу. В нем нет начала и конца... Кровь в сосудах течет непрерывно и кругообразно, а сердце хозяйничает над кровью».
В Древнем Китае производилось анатомирование трупов. Например, в «Нейцзин» указывается, что после смерти «можно вскрывать труп и изучить степень плотности сердца, печени, легких и других органов, величину желудка и мочевого пузыря, вместимость желудка и кишечника; длину кровеносных сосудов...; объем таза и т.д — все это выражается в определенных величинах». Основным органом, по представлениям древнекитайских врачей, было сердце. Печень рассматривалась как обиталище души, а желчный пузырь — мужества.
Общепатологические воззрения древнекитайских врачей также исходили из натурфилософских представлений: причиной возникновения болезней считали нарушение соотношений активного (ян) и пассивного (инь) начал, которые в организме, так же как и в окружающей природе, находятся в постоянной борьбе. С действием ян связывали гиперфункцию, с действием инь — гипофункцию отдельных органов или организма в целом. При этом признавали возможность влияния на борьбу ян и инь различных факторов окружающей среды, условий и образа жизни, питания и др.
Врачебные знания передавались из поколения в поколение. Есть основания считать, что основной формой подготовки врачей в Древнем Китае были семейные и так называемые ремесленные школы (опытные врачи набирали для подготовки учеников). Вместе с тем высказывается предположение, что при дворах императоров существовали медицинские школы под руководством наиболее знаменитых врачей. В эпоху Чжоу (11—3 вв. до н.э.) медики делились на пять категорий в соответствии с квалификацией. В результате ежегодных проверок лучшие врачи получали награды, на малоспособных налагались взыскания.
Крупный вклад в развитие китайской М. внес Цан Гун (267—215 гг. до н.э.). Он ввел записи, в которых указывались дата осмотра, состояние больного, назначения и результаты лечения. Это были первые истории болезни. К выдающимся врачам первых веков н.э. относятся Чжан Чжун-цзин (150—219 гг. н.э.) — автор обширного трактата об инфекционных заболеваниях, содержащего 400 способов лечения и более 100 советов по профилактике заразных болезней; Ван Шу-хэ (210—285 гг. н.э.), который на основе трудов Чжан Чжун-цзина и других, более древних источников написал «Книгу о пульсе» в 10 томах. Учение Ван Шу-хэ о пульсе получило широкое признание среди китайских врачей и было воспринято в других странах Востока. В частности. Ибн-Сина (Авиценна) различал 46 видов пульса, 35 из которых взял из китайской практики.
Содержание и общие положения М. Древнего Китая прослеживаются уже в трактате «Чжоуские ритуалы», В этом произведении М. подразделяется на внутренние болезни, хирургию, диететику и ветеринарию. По-видимому, рано выделились в самостоятельные разделы учение о глазных болезнях, акушерство и гинекология. Китайским врачам были известны болезни сердца, психические нарушения, заразные болезни.
В «Чжоуских ритуалах» упоминается «врач по лечению ран». Хирурги армии (медико-санитарная организация в китайской армии была создана не позднее 5—4 вв. до н.э.) с успехом лечили не только своих воинов, но и солдат враждебного лагеря, которых по выздоровлении отпускали домой. Древнекитайские врачи умели делать чревосечения. Для обезболивания использовали сок конопли и растений семейства пасленовых, вино. Из подручных средств (бамбук, керамика, древесная кора, листья пальм и пр.) изготовлялись шины, бандажи, повязки, шовный материал, жгуты. При раскопках найдены различные хирургические инструменты из бронзы, железа, костей, раковин.
Диагностика издревле была одним из важнейших звеньев врачевания. Важными для диагностики считали осмотр и опрос больного. Особое внимание уделялось «окнам тела» — ушам, рту, ноздрям и другим естественным отверстиям тела; мочу исследовали на вкус.
Большое место занимало учение о пульсе. Была разработана скрупулезная система его исследования и трактовки полученных результатов. По мнению древнекитайских врачей, с помощью исследования пульса можно выяснить все совершавшиеся в организме человека процессы: работу сердца, легких, печени, течение соков, крови в жилах, «игру» чувств — печаль, гнев, радость, болевые ощущения, состояние экстаза, томление духа. Различали разновидности пульса по скорости, силе, ритму, характеру пауз пульсовой волны. Пальпация артерии у лучезапястного сочленения продолжалась многими часами, требовала от врача большого профессионального искусства, внутренней сосредоточенности.
Лечебные назначения зависели от общего состояния больного, предполагаемой причины болезни и прогноза. При этом древнекитайские врачи исходили из положения, что при любой болезни поражается организм в целом, «Избегай лечить только голову, если болит голова, и лечить только ноги, если болят ноги».
Оригинальными методами лечения, составляющими своеобразие китайской М., являлись широко применяемые до настоящего времени иглоукалывание и прижигание. Древнекитайские врачи широко использовали диетотерапию, водные процедуры, массаж, солнечные ванны. В 2 в. н.э. в медицину Китая вошла своеобразная пластическая гимнастика, явившаяся продолжением гораздо более древней традиции. Рассчитанный на психологический эффект, этот вид лечебной физкультуры ставил своей задачей отвлечь внимание больного от скорбных мыслей, снять болевые ощущения, создать радостное настроение. Гимнастика оказывала положительное действие при болезнях органов движения, пищеварительной системы.
На арсенал применяемых лекарственных средств повлияло разнообразие географического ландшафта страны и ее флоры. Корень женьшеня начали использовать не позднее 5—6 вв. до н.э. Морскими водорослями издавна лечили зоб. Тунговое масло применяли при кожных заболеваниях, орехи бетеля — против глистов, цветы камелии — при ожогах, цветы персиков — как мочегонное средство, при запорах, опухолях. Широко использовали семя подорожника, лотос, папоротник, одуванчик, камфору, индийскую коноплю, имбирь, лимонник, ипекакуану, мускус. Коконами шелкопряда лечили детские судороги, панцирем черепах — цингу, свежей печенью морских рыб — куриную слепоту. Растительные краски применяли при лечении многих кожных болезней, малярии. В большом употреблении были сурьма, олово, свинец, соединения меди, серебра и особенно ртути (киноварь). «Ртутные камни» использовали при лечении сифилиса. Были открыты противочесоточные свойства серы. Классификация лекарственных средств по их фармакологическим свойствам практиковалась за несколько веков до нашей эры. Врачи выделяли в отдельные группы кровоочистительные, слабительные, чихательные средства и др. «Трактат о корнях и травах» («Шэнь-нуна», не ранее 11 и не позднее 5 в. до н.э.), включавший описание 365 лекарственных растений, является древнейшей фармакопеей мира.
Широко применяли мероприятия, направленные на охрану общественного и личного здоровья. Так, территория будущего поселения подвергалась санитарной мелиорации, площади и улицы в городах были вымощены. Кварталы располагались на сухих, освещенных солнцем южных склонах вблизи источников доброкачественной питьевой воды. Дома аристократов возводились на фундаментах, были светлыми, просторными. Отопление в зажиточных домах осуществлялось «канами» — трубами, проходящими внутри стен и под полом, по которым циркулировал нагретый воздух из печи, расположенной во дворе, в жилье не было копоти и угара. Мебель в домах богачей состояла из шелковых, бамбуковых ширм, сундуков, ларей из сандалового дерева, кроватей, дом освещался светильнями с ароматическими веществами. В эпосе «Шицзин» есть много стихов, воспевающих заботу простых людей о чистоте и опрятности жилья. В домах периодически выкуривали насекомых, замазывали щели от мышей. В народе считалось, что чистота в доме полезна не только для здоровья, она источник приятных эмоций. Мытье, стирка белья были общепринятым обычаем. Для поддержания чистоты тела пользовались горячей водой. Была распространена традиция мытья ног при входе в жилье. «Чжоускими ритуалами» предписывалось каждому китайцу с восходом солнца умываться и полоскать рот, мыть руки 5 раз в день, один раз в 3 дня мыть голову и один раз в 5 дней купаться. В качестве мыла употребляли мыльный корень, щелок, растения, богатые сапонинами. Пищу готовили и ели на столах. У бедняков столами служили «зеленые» (из бамбука, тростника) циновки. Количество и разнообразие посуды зависели от социального происхождения хозяина. Кухонную и столовую посуду чистили песком, мыли колодезной, дождевой водой.
В Китае еще до нашей эры применяли предупредительные меры против оспы в виде вариоляции. Самоизоляция, покидание человеком насиженных мест при эпизоотии грызунов (крыс и мышей) рассматривались как одна из мер предупреждения чумоподобных болезней. Для защиты от москитов, комаров употребляли пологи, сетки на голову, от мух — остро пахнущее кунжутное масло. Сохранилось много народных изречений о вреде пьянства.
В Древнем Китае были популярны танцы, спортивные игры (борьба, скачки, охота, гребля). Лазаньем по канатам, лианам на стены домов, высокие деревья занимались ради развлечения и люди «вечереющего» возраста. Многие физические упражнения имитировали движения животных, отличающихся силой, ловкостью, быстротой и грацией (медведя, тигра, оленя, птицы, обезьяны).
Расширяющиеся культурные связи Китая обусловили распространение китайской медицины в Тибет, Корею, Японию, Монголию, на Дальний Восток, в Среднюю Азию.
Медицина Тибета. Современный народ Тибета возник в результате смешения народности цянов, переселившихся в Тибет из юго-западного Китая (мест, примерно соответствующих территории современной провинции Сычуань) около 6—5 вв. до н.э., с коренным населением. Основным занятием населения было горно-кочевое скотоводство, в низменных районах преобладало поливное земледелие. В начале 7 в. н.э. произошло объединение отдельных общин в единое государство (Тибетская империя), просуществовавшее до второй половины 9 в. В первой половине 7 в. появилась тибетская письменность. С 787 г. государственной религией стал буддизм, влияние которого в тибетских общинах начало проявляться не позднее 4 в.
На формирование и развитие тибетской М. большое влияние оказали медицинской системы соседних стран, особенно Индии и Китая. Согласно одной из версий, уже в 7 в. индийский врач Бхаратхаджа, китайский врач Хань Ванкан и иранский врач Галенос перевели на тибетский язык каждый по трактату, посвященному своей медицинской системе, и составили коллективный труд «Оружие бесстрашия». По другой версии, объединение медицинских систем Индии, Китая и Ирана было осуществлено тибетским врачом Джоба Гонбоем, получившим образование в Индии, совместно с его китайским и иранским коллегами. Созданный ими коллективный труд впоследствии был дополнен китайскими врачами. Эти дошедшие до нашего времени в виде фрагментов труды составили традиции так называемой старой медицинской школы, ориентированной преимущественно на натурфилософские построения китайской М. Утверждение в 8 в. буддизма в качестве государственной религии значительно осилило индийские влияния и привело к формированию так называемой новой медицинской школы, для которой характерен почти полный отказ от китайских традиций. 9 в. отмечен для Тибета внутренними смутами, гонениями на буддизм, утратой многих культурных, в т.ч. медицинских, достижений. Возрождение тибетской медицины в 10 в. началось в русле традиций новой медицинской школы» и связано с именем знаменитого переводчика и религиозного деятеля Ринчен-Заппо. Созданная им школа в 10—11 вв. занимала ведущее положение в тибетской М. и ориентировалась на индийские медицинские традиции. Дальнейшее развитие тибетской М. связывают с деятельностью выдающегося тибетского врача Ютог Йондан-гонпо (1112—1203), который собрал и в рамках единой медицинской системы обобщил весь накопленный положительный опыт тибетских врачей. В результате была создана своеобразная медицинская система, которую, по мнению большинства специалистов, невозможно свести однозначно ни к китайской, ни к индийской традиции, хотя заимствованные из обеих традиций теоретические установки и практические рекомендации легко узнаваемы. Эту особенность тибетской М. объясняют стремлением сохранить наиболее важные достижения обеих медицинских систем. Ютог Йондан-гонпо написал труд, известный под кратким названием «Чжуд-Ши» («Четыре тантры»), который стал классическим источником тибетской М. и не потерял своего значения до настоящего времени. В рамках комментирования этого труда появлялись и исчезали различные школы и направления в тибетской М. и была создана обширная медицинская литература.
Теоретические установки тибетской М. основаны как на индийском учении о «трех чунах». Так и на китайском учении о двух началах «инь» и «ян». Физиологическим эквивалентом «трех чун» являются «три доша» — ветер, желчь и слизь, находящиеся в постоянном движении. Их соотношение определяет темперамент и характерологические особенности человека, а гармоническое сочетание — физиологическую норму.
Болезнь — результат нарушения равновесия между «тремя доша», которое проявляется главным образом на тканевом уровне. Кроме того, в соответствии с учением «инь» и «ян», в организме человека действуют две силы — «жар» и «холод», нарушение равновесия между которыми приводит к заболеванию «одного из двенадцати органов». Хотя фиксированной иерархии между этими двумя механизмами, обеспечивающими жизнедеятельность, организма, в тибетской М. достаточно четко не разработано, имеются основания считать, что представления о двух силах рассматриваются как более общий механизм жизнедеятельности. Так, в сутре о пульсовой диагностике на первое место выдвинуты «жар» и «холод», вследствие нарушения равновесия которых возникают «общие болезни»; нарушение же равновесия «трех доша» вызывает «частные болезни». При этом органы и ткани имеют равный статус как «места расположения болезни». Такая иерархия, однако, касается не всех положений тибетской М. При нарушении равновесия «трех доша» и двух сил («жар» и «холод») предполагалась различная терапевтическая тактика. В первом случае задачей лечения являлось «подавить», «успокоить» возбудившийся фактор, чтобы привести систему в целом в состояние равновесия; во втором — «вывести», «вытащить», «выгнать» фактор (причину — инородное тело, злой дух и т.п.), внедрившийся в организм и вызвавший «накопление» или «истощение» одной из сил «жара» или «холода»).
Представления тибетских врачей о строении и отправлениях человеческого организма были весьма неточны. Морфологические описания печени, сердца, легких и других внутренних органов в «Чжуд-Ши» грубо приближенны.
В задачи врача входило умение «видеть, слышать и исследовать» больного. При лечении любой болезни требовалось сочетание осторожности и последовательности. Процесс лечения сравнивался со ступенеобразным подъемом по лестнице; вначале — совет о безвредном образе жизни, нормальная (переносимая) диета, потом — лекарство, и лишь как крайняя мера — нож. Описаны симптомы 400 болезненных форм и 1616 их разновидностей. Наиболее сложными для лечения считались детские и женские болезни: «Труднее вылечить одну женщину, чем 10 мужчин, и одного младенца, чем 10 женщин». Туберкулез называли «ядом легких»; крупозную пневмонию описывали под названием «кровавая болезнь легкого». При лечении сифилиса широко применяли ртуть. От глистов назначали корневище папоротника (преобладал бычий солитер, т.к. население употребляло в пищу в основном мясо рогатого скота). В Тибете знали многие виды желудочно-кишечных болезней; первое место в их лечении занимала кипяченая вода. Глазные и кожные болезни лечили особые специалисты. Хирургии в системе медицинских знаний отводилось значительное место. Тибетские врачи умели пунктировать живот, ампутировать конечности. Лекарь, не владеющий хирургией, это не «врач, а богатырь, но лишенный меча и панциря». Хирург должен быть «ловок в производстве операции, никогда не гнушаться гноя, крови, нечистоты, извержений».
Объектом внимания врача был не только больной, с которым всегда надо «... говорить и действовать безобманно, кротко, правдиво и с улыбкой», врач был обязан приобретать познания об окружающей его природе и даже о всем мироздании, т.е. о жизни в самом широком значении этого слова.
Личность врача в Древнем Тибете была окружена ореолом святости.
Систематический курс обучения проводился в школах при монастырях. Он продолжался до 10—15 лет, носил теоретический характер и был основан на комментировании древнейших тибетских медицинских источников. Идеалом считался ученик, заучивший всю книгу «Чжуд-Ши», содержавшую в первоначальном (максимальном) варианте до тысячи страниц.
В истории применения лекарств в Тибете можно выделить две стадии. В начале 1 тысячелетия н.э. преобладали лекарства тропического пояса Южной Азии (Индии, Китая); во второй половине 1 тысячелетия н.э. перечень лекарственных средств отражал местную природу. Ассортимент лекарств тибетских врачей достигал 1000 названий (для 500 из них установлена латинская номенклатура). Для лечения использовали тестикулы собак, баранов, рога оленей (панты), бобровую струю. Простоквашу применяли для борьбы со старостью. Больного, укушенного бешеным животным, кормили мозгом бешеной собаки. Тибетские врачи знали токсические свойства белены, чилибухи (стрихнина), назначали камфору. Широко употребляли ревень, валериану, солодковый корень, мяту, горечавку, соли железа, меди, сурьмы, серу, селитру, яйца птиц, вино, мед, кумыс.
Важным разделом тибетской М. была диететика. Мясо различных животных (птиц, млекопитающих, черепах, змей) считалось лечебным средством при многих заболеваниях. Масла и жиры применяли как средства, снимающие раздражение слизистых оболочек, при малокровии и др.; зелень (лук, щавель, морковь, ревень и т.п.) — при расстройствах питания и пищеварения, а также в качестве противоядия при отравлениях. Тибетцы знали целебное действие киселей из черники и других ягод. Они считали, что у людей, осведомленных, как, когда, сколько и при каких условиях следует употреблять пищу и питье, жизненные процессы не расстраиваются, пищеварение улучшается и все органы функционируют идеально.
Предписывалась регламентация сна, отдыха, пищи, половой жизни. Самый полезный сон бывает ночью, когда он протекает в спокойствии; для желудка полезнее недоедание, чем переедание. Следует избегать проезда через местности, где убивают скот, не садиться на землю, предварительно не осмотрев ее, во избежание укусов змей, нападения ядовитых пауков, клещей. Чтобы прожить весь век в здоровье, следует отбросить вредные привычки, порочное поведение, т,к. они удручают тело, органы чувств. В малых дозах вино полезно, но в больших количествах оно извращает духовные способности; на первой стадии опьянения человек чувствует себя счастливым, на второй — делается, как бешеный слон, на последней — он труп, ничего не понимает, а его душа — область мрака.
Рекомендовались прогулки, верховая езда, борьба, хождение по горам, охота на зверей. Поощрялись купания в открытых водоемах, т.к. считалось, что они — основа долголетия, уничтожают дурной запах, слабость тела, сонливость, телесный жир. Особенно полезными считались купания в теплых аршанах — минеральных источниках, которыми богат Тибет.
В тибетских библиотеках до сих пор хранятся переводы многочисленных медицинских рукописей Китая и Индии. В Тибете скрещивались пути цивилизаций Южной и Передней Азии. Медицинские сочинения, проникшие сюда из государств древнего мира, сохранились в первозданном виде. При сопоставлении сочинений тибетской М. и медицинских сочинений византийских, сирийских и среднеазиатских авторов выявляются определенные черты сходства. Тибетская М. в 13 в. была целиком принята в Монголии. Многие диагностические приемы и лечебные средства тибетской М. получили широкое распространение. Как единая система медицинских представлений тибетская М. изучается во многих странах, в том числе в СССР.
Медицина античного мира. Античность — наиболее важный по своим последствиям период древней истории, период, от которого берет начало вся современная европейская культура и соответственно современная так называемая научная М. Истоки подавляющего большинства философских и естественнонаучных идей, нравственных и этических представлений, культурных традиций восходят к греческой мифологии, трудам античных философов, естествоиспытателей и врачей, к бессмертным памятникам античной литературы, ваяния и зодчества. В отличие от многих достижений культуры Древнего Востока (Египта, Месопотамии, Ирана) античные культурные достижения, хотя и окрашенные, а подчас и искаженные различными религиозными и идеологическими интерпретациями, постоянно были в центре внимания образованных слоев европейского общества, служили источником идей для научного поиска, вдохновения для художников и поэтов, эталоном мудрости, мастерства, человечности и красоты.
Понятие «античный мир» ограничено как хронологически, так и географически. Оно включает Древнюю Грецию (главным образом классический период ее истории), эллинистический мир и Древний Рим.
Медицина Древней Греции. История Древней Греции не только начальный, но и наиболее значимый период античности. Восприняв и развив многие культурные достижения и традиция народов Древнего Востока, греки сумели на основе новых представлений синтезировать культурные приобретения многих народов. Они отобрали из них все наиболее ценное и сделали неотъемлемой частью собственной культуры, придав системе знаний более абстрактный и вместе с тем более систематизированный, рациональный характер. Древние греки обогатили человечество новыми достижениями и открытиями. Древнегреческая культура, философии, естествознание и медицина представляют собой качественно новый этап культурного развития человечества.
Наиболее ранней стадией развития древнегреческой культуры принято считать крито-микенский, или Эгейский, период. В этот период возникли раннеклассовые государства на острове Крит (около 28—11 вв. до н.э.) и на материковой части Греции (Микены, Пилос и др. (17 в. до н.э.). Получила высокое развитие бронзовая культура. В середине 3 тысячелетия до н.э. на многих островах Эгейского моря добывали серебро, свинец и медь, изготовляли металлические наблюдался прогресс в строительстве и гончарном деле. Около 23 в. до н.э. было создано критское пиктографическое письмо, эволюционировавшее к 18—17 вв. до н.э. в иероглифическое; около 18 в. до н.э. была выработана новая система письменности — так называемое слоговое письмо, которое приспособили к своему диалекту населявшие материковую Грецию ахейцы.
Могущественный Крит 2 тысячелетия до н.э. имел большой флот, поддерживал культурные и торговые связи с Египтом, Вавилонией. Остатки роскошных дворцов свидетельствуют о высоком уровне санитарного благоустройства: уже в конце 3 тысячелетия до н.э. в Кносском дворце были сооружены канализация, ванные помещения, вентиляция. На острове Крит обнаружена одна из древнейших эмблем — изображения змей в руках жриц, молитвенно склонившихся перед богиней плодородия и материнства; такие же змеи в руках самой богини.
С 15 в. до н.э. начинается расцвет ахейских царств материковой Греции. Около 1500 г. до н.э. ахейцы завоевали Крит, а в 1260 г. до н.э. победой ахейцев завершилась Троянская война.
Два следующих периода Древней Греции — предполисный, или гомеровский (11—9 вв. до н.э.), и архаический (8—6 вв. до н.э.) — включают вторжение дорийцев, повлекшее за собой распад раннеклассовых ахейских государств, постепенное распространение железных орудий труда, что обусловило дальнейшее развитие производительных сил, отделение ремесла от земледелия, которое привело к интенсификации товарообмена и развитию городов, а также формирование и укрепление особой формы социально-экономической и политической организации древнегреческого общества — полиса (города-государства), являющегося коллективом свободных граждан, противостоящих рабам и другим категориям зависимого населения.
Дорийцы унаследовали от ахейцев и критян плуг, колесные повозки, парусные суда, гончарный круг и другие орудия труда, архитектуру (особенно храмовую и крепостную). В 10—8 вв. до н.э. сложилось греческое буквенно-слоговое письмо, используемое до настоящего времени. В зависимости от результатов борьбы демоса и родовой аристократии в полисах устанавливалась демократическая (Афины) или олигархическая (Спарта, Коринф) форма государственного управления. В экономически развитых полисах, особенно в Афинах и Коринфе, было широко распространено рабство.
5—4 вв. до н.э. — период экономического, политического и культурного расцвета полисного строя. Он связан с возвышением Афин в результате победы греков в греко-персидских войнах (500—449 гг. до н.э.) и создании Делосского союза (союз греческих приморских городов и островов Эгейского моря во главе с Афинами; 478 или 477—404 гг. до н.э.). Однако этот период был достаточно кратковременным. Внутренние противоречия (превращение бывших союзников в подданных, диктат Афин, ограничение свободы торговли, взыскание подати, карательные экспедиции), а также внешнеполитические конфликты (борьба Афин и Коринфа за торговые пути на запад, борьба Афин и Спарты за гегемонию в стране) в итоге привели к Пелопонесской войне (431—404 гг. до н.э.), охватившей большинство греческих полисов, В результате поражения в этой войне Афин установилась спартанская гегемония в Греции. В 395 г. до н.э. началась развязанная Спартой война, в которой Спарте противостоял союз Афин, Коринфа, Фив и др. Эта война фактически привела к зависимости всех этих полисов от богатой Персии. Контроль за деятельностью побежденных греческих городов-государств был передан Спарте. Целая серия последующих междоусобных войн закончилась созданием союза греческих государств во главе с Македонией (338—337 гг. до н.э.). Началась новая эпоха — эпоха эллинизма.
Источником наших знаний о культуре Древней Греции, философских, естественнонаучных представлениях древних греков, состоянии медицины и медико-санитарного дела служат археологические находки, памятники древнегреческого искусства, греческая мифология, литературные произведения (Гомера, Гесиода и др.), богатое наследие древнегреческих и античных философов, историков, естествоиспытателей и врачей.
Мифология — важный источник изучения древнегреческой М. Эгейского, гомеровского и архаичного периодов. Причем в отличие от мифологии Древнего Востока, в частности от египетской, которая не смогла освободиться от тотемистических пережитков, древнегреческая мифология характеризуется выраженным антропоморфизмом, свидетельствующим не только о растущей власти человека над природой, но и о живом интересе к природе и человеку, которыми проникнуты древнегреческое искусство, философия и естествознание.
Ко 2 тысячелетию до н.э. сформировались олимпийская мифология и олимпийский пантеон богов во главе с Зевсом. Из древнегреческих богов кроме Асклепия (бога врачевания) и его дочерей Гигеи (богини здоровья) и Панакеи (всеисцеляющей покровительницы лекарственного лечения) М. и врачеванию покровительствовали Аполлон (бог-целитель и прорицатель), Артемида (богиня охоты и покровительница рожениц), а также Гестия (покровительница домашнего очага и всего, что связано с семейным бытом, включая вступление в брак, рождение ребенка и т.п.). С этими же сторонами жизни был связан культ Афродиты — богини женской красоты, любви и брачной жизни. Врачеванием, согласно мифологии, занимался кентавр Хирон.
Культовая практика древних греков сводилась главным образом к молитвам и жертвоприношениям, которые обычно проводились в храмах, посвященных тем или иным богам. Вместе с тем их религия не ограничивала свободы познания; боги были составной частью природы и при всем своем могуществе в отношении людей не могли изменить присущего природе порядка и даже сами в известной степени зависели от него.
В зависимости от условий развития древнегреческих полисов сложились различные системы образования и воспитания, из которых наиболее известны афинская и спартанская. Система воспитания, сформировавшаяся в Афинах, была более разносторонней и демократичной; она предусматривала сочетание умственного, нравственного, эстетического и физического (гимнастического) воспитания. В Спарте воспитание и обучение находились под строгим контролем государства. Сложившаяся в Спарте к середине 6 в. до н.э. система государственного школьного обучения была обязательной для каждого спартиата в возрасте от 8 до 20 лет и сводилась главным образом к военно-спортивному и общественно-религиозному обучению.
Зачатками высшего образования в Древней Греции считают кружки, сгруппировавшиеся вокруг крупных ученых (риторов, философов, врачей и др.). Эти школы получали названия по имени ученого или месту обучения (Академия Платона, Ликей Аристотеля в Афинах, Кротонская, Книдская и Косская медицинские школы).
Обучение врачебному искусству первоначально проводилось при храмах Асклепия, Аполлона и Артемиды. В храмах Артемиды, вероятнее всего, обучали главным образом акушерскому искусству. Элементы М. преподавались, по-видимому, в палестрах — школах, где афинские подростки 12—13 лет получали физическое воспитание, упражняясь в пятиборье. Известно, что учителя в палестрах занимались хирургией (лечили раны, вывихи, переломы) и даже внутренней медициной.
Как и в других видах ремесла, в М. получило развитие семейное и ремесленное ученичество; складывались школы, хранившие и развивавшие традиции своих основателей. Наиболее известными из них были Книдская и Косская; из Косской семейной школы вышел Гиппократ.
Судя по имеющимся источникам, отдельные формы медицинской деятельности сложились в древнегреческих полисах не позднее 7—6 вв. до н.э. Постоянной армии и постоянных врачей в этот период в полисах не было. В случае войны формировалось ополчение, в числе воинов были лица, владеющие навыками оказания помощи раненым, а также врачи, которые совмещали врачебные обязанности с непосредственным участием в военных действиях. Фукидид (около 460—400 гг. до н.э.) описывал случаи приглашения врачей при вспышках эпидемических болезней, в частности во время «Афинского мора» в годы Пелопонесской войны. Странствующие врачи-ремесленники (периодевты) посещали населенные места, оказывали жителям необходимую, в т.ч. хирургическую, помощь и оставались обычно до тех пор, пока была потребность в их присутствии.
При храмах Асклепия имелись помещения для лечения больных, в т.ч. стационарного. Из собственно лечебных процедур особое внимание уделялось водолечению и массажу; реже оказывалась хирургическая помощь. Вместе с тем при археологических раскопках обнаружены остатки хирургического и другого медицинского инструментария (ножи, щипцы, долота, зонды, иглы), а также слепки больных органов, которые больные приносили как благодарственную жертву за излечение либо как предварительное жертвоприношение. Слепки изготовлялись из глины, мрамора, а иногда из драгоценных металлов, играя в последнем случае роль гонорара. По ним можно составить представление о болезнях, по поводу которых обращались за излечением, а также об уровне анатомических сведений у древних греков. Кроме асклепейонов имелись ятрейи — лечебница на дому у практиковавших врачей. Хотя древнегреческая М., подобно древнегреческой математике, явилась непосредственным продолжением традиции Древнего Востока, она лишь в незначительной степени восприняла мистическую сторону М. древневосточных цивилизаций и относительно меньше находилась под влиянием религии.
В Древней Греции большое внимание уделялось личной гигиене, физическим упражнениям, закаливанию. На эллинских вазах, предметах обихода сохранились многочисленные изображения приемов ухода за телом (обливание, массаж, растирания). Скульптуры Фидия, Праксителя и др. отобразили культ здоровья и красоты человеческого тела. В городах Древней Греции высокого уровня достигло санитарное благоустройство.
Историческая роль Древней Греции в развитии М. отразилась, в частности, в широком использовании греческих терминов в современной медицинской терминологии. Такие термины, как «хирургия», «педиатрия», «психиатрия», «дерматология», «офтальмология», «неврология», «терапия», «пневмония», «геморрагия», «эпилепсия» и др., имеют древнегреческое происхождение. Латинские термины в большинстве случаев представляют собой перевод соответствующих греческих понятий (Древний Рим полностью воспринял греческую М.; кроме того, наиболее крупные римские врачи были либо греками по происхождению, либо обучались врачеванию в греческих медицинских школах).
Значение древнегреческой М. не исчерпывается только различными открытиями, новыми диагностическими и лечебными приемами. Именно от нее берут начало два основных направления — эмпирическое и философское, которые проходят через всю М. последующих эпох, развиваются самостоятельно и начинают смыкаться лишь в 17—18 вв., чтобы воплотиться в основной принцип современной М. — принцип единства науки и практики, единства методологии и опытного знания. Вплоть до периода эллинизма философские, политические и естественнонаучные воззрения составляли единую систему знания; почти все философы были одновременно естествоиспытателями, многие из них активно интересовались вопросами М., особенно анатомо-физиологическими проблемами. Поэтому труды философов оказали весьма существенное влияние на развитие древнегреческой медицины.
Родиной древнегреческой философии и естествознания была Малоазийская Иония, более тесно, чем другие районы Древней Греции, связанная с культурой Древнего Востока. Здесь появилась первая греческая философская (милетская) школа, основателем которой был Фалес (около 625—547 гг. до н.э.). Философы этой школы первыми сумели создать картину возникновения и существования Вселенной без вмешательства богов и предопределенности. Они развивали учение о единстве материи как основе всего сущего, утверждая, что все произошло из единого начала (первостихии). Фалес считал такой первостихией воду (многие усматривают в этом связь с шумерским мифом о сотворении мира из воды). Его последователь Анаксимандр (около 610—546 гг. до н.э.) считал основой всего сущего апейрон (беспредельный хаос, находящийся в постоянном движении), Анаксимен (около 585—525 гг. до н.э.) — воздух, а Гераклит (5 в. до н.э.) — вечно живой огонь. С именем Гераклита связывают возникновение идей непрерывного изменения всего сущего («все течет», «в одну реку нельзя войти дважды») и вечной борьбы противоположностей, в которой обретается согласие, возникает единый взаимосогласованный космос.
Ученики и последователи Пифагора (около 571—500 гг. до н.э.) считали началом всего сущего число; в числе осуществляется синтез единства и множества, и оно является основанием всякой меры, гармонии и пропорциональности. Пифагорейцы часто выходили за пределы фактов, а опытное познание подменяли мистикой числа. Одним из основных положений пифагорейцев была вера в переселение душ (по существу такая же, как у индусов, хотя она могла развиться независимо от индийского влияния); культ сводился к тому, чтобы избежать цикла перевоплощения с помощью мистических опытов (оргий), а также экстазного мистического созерцания (теорий-видений), что по содержанию близко к идее о достижении нирваны через йогу. Пифагор интересовался и М., считая важнейшим условием сохранения здоровья и лечения большинства болезней соблюдение особого режима жизни и питания. В терапии Пифагор и его ученики применяли «успокоительно действующие музыку и пение» и «магические» стихи. Пифагореец Филолай сформулировал учение о трех духах, или душах: растительной, расположенной в пупке и имеющейся у всех, обладающих способностью к росту: животной (чувствующей), дающей ощущение, движение и расположенной в сердце; рациональной, имеющейся только у человека и помещающейся в мозге. Филолай выделил четыре важнейших части человеческого организма: мозг (местопребывание ума), сердце (вместилище чувствующей души), пупок и половые части (органы размножения и роста). В учении Филолая можно увидеть попытку обобщения и систематизации анатомо-физиологических представлений различных народов Древнего Востока: древнеегипетских (сердце — центр жизни и основной орган чувств), древнеиндийских (пупок — основной орган, обеспечивающий ощущение, размножение, питание и развитие), месопотамских или, возможно, воспринятых от Алкмеона Кротонского (мозг — вместилище разума и центр нервной системы).
В 5 в. до н.э. возникли космогонические и натурфилософские учения. Анаксагор (около 500—428 гг. до н.э.) выдвинул учение о неразрушимых элементах — «семенах» вещей. Движущей силой мирового порядка он считал ум, организующий первоэлементы. Анаксагор, по-видимому, первый в Древней Греции производил наблюдения с рассечением головного мозга животных. Причины всех болезней он связывал с желчью. Алкмеон на рубеже 6—5 вв. создал одну из первых светских медицинских школ в Кротоне. С именем Алкмеона связывают развитие пневматической теории, известной еще древним египтянам, которую Алкмеон обосновывал с позиций учения Анаксимена, а также формулирование принципа лечения противоположным на основе диалектических концепций Гераклита. Алкмеон вскрывал трупы; он утверждал, что функция мышления осуществляется головным мозгом, что органы чувств связаны с мозгом непосредственно, считал головной и спинной мозг, а также кровь местом возникновения всех болезней. Алкмеон занимался практической врачебной деятельностью.
Философ, врач и поэт Эмпедокл, близкий к милетской школе (около 490—430 гг. до н.э.), считал, что в основе сущего лежат четыре вечных и неизменных первоэлемента (земля, вода, воздух, огонь), а движущими силами всего служат любовь (сила притяжения) и ненависть (сила отталкивания). Он полагал, что эти противоположные тенденции являются механически действующими факторами, смешивающими первоэлементы и вновь разделяющими их. На основе учения Эмпедокла были развиты представления о четырех соках организма и четырех темпераментах, господствовавшие в физиологии и М. почти два тысячелетия. Эмпедокл основал в Сицилии медицинскую школу. Он пытался объяснить движение, развитие зародыша человека, интересовался происхождением полов. Считают, что принцип подобия в терапии («подобное лечи подобным») развит на основе положения Эмпедокла «подобное познается подобным».
Представители школы материалистического атомизма Левкипп (5 в. до н.э.) и Демокрит из Абдеры (около 460—370 гг. до н.э.) считали подобием всего сущего атомы, движущиеся в пустоте. Атомы, будучи неизменными, вечными, непроницаемыми и неделимыми, различаются по объему и фигуре, чем обусловливают различия явлений. Демокрит проводил мысль о причинном порядке всех явлений, о возможности достигнуть достоверного знания, отличного от субъективных мнений. Он синтезировал в своем учении естественноисторические познания того времени, разработал этическое учение, оказавшее впоследствии влияние на Эпикура.
Демокрит занимался вскрытием трупов животных, проводил медицинские наблюдения и написал ряд не дошедших до нашего времени трудов анатомо-физиологического содержания, а также работы о пульсе, воспалении, лихорадке, бешенстве. Демокрит полагал, что основной фактор сохранения здоровья — рациональный образ жизни (диететика): режим, предусматривающий раннее пробуждение, физические упражнения, рациональное сочетание труда и отдыха, физического и умственного труда. невозмутимость, умеренность и т.д. «Здоровья просят у богов в своих молитвах люди, — писал он, — а не знают, что сами имеют в своем распоряжении средства к этому».
Идеалистическое направление древнегреческой философии получило развитие в учении Платона (428 или 427—348 или 347 гг. до н.э.), стремившегося на основе синтеза учений своих предшественников (пифагорейцев, Гераклита и др.) и учения о совершенном разуме Сократа (5 в. до н.э.) осмыслить изменчивый и множественный мир явлений как всеобъемлющее единство бытия. Согласно учению Платона, идеи — вечные и неизменные умопостигаемые прообразы вещей, всего преходящего и изменчивого бытия; вещи — подобия и отражения идей; познание — воспоминание души об идеях, которые она созерцала до соединения с телом. Платон считал душу независимой от тела, бессмертной и нематериальной сущностью. В то же время он допускал существование других смертных душ, управляющих различными функциями организма. В частности, он различал мыслящую (интеллектуальную) душу, располагающуюся в мозге и управляющую высшими мыслительными способностями и органами чувств; чувствующую душу, находящуюся между диафрагмой и шеей, центр смелости и гнева, пребывающий в сердце; животную душу, управляющую питанием организма и располагающуюся в брюшной полости вместе с печенью и кишечником. Здоровье и болезнь, по Платону, определяются нематериальным, потусторонним началом — пневмой, проникающей в организм вместе с вдыхаемым воздухом. Это положение, по-видимому, восходит к аналогичным представлениям древних египтян и перекликается с естественнонаучными воззрениями Алкмеона. Содержание патологии Платона составляли превращения пневмы в организме, ее влияние на отдельные органы («Тимей» и другие произведения). Являясь носителем общественных взглядов афинской аристократии, Платон в своем произведении «Законы» предлагал установить различные системы лечения: для рабовладельцев — научную философскую систему медицины, для рабов — ненаучную знахарскую; врачей он также делил на две резко различающиеся категории — для рабовладельцев и для рабов.
Вершиной древнегреческой философской мысли явились работы Аристотеля. Развив положение о четырех основных принципах бытия (форма, материя, действующая причина и цель), детально изучив и систематизировав фактические знания о человеке, животных и растениях, он создал учение об органической целесообразности. «Природа, — писал Аристотель, — производит все ради чего-нибудь...» В фактах органического развития он видел закономерный процесс, обусловленный внутренне присущими живым телам особенностями их строения. Телеологическая направленность интерпретации Аристотелем целесообразности процессов, происходивших в природе, закрывала путь для ее объяснения с помощью материальных причин. Эту сторону учения Аристотеля использовали средневековые схоласты, утверждая, что целесообразность природы можно постичь, лишь признав существование сверхприродного существа, т.е. бога, сотворившего мир и определившего цели всего сущего в нем.
В работах Аристотеля встречаются высказывания, относящиеся непосредственно к медицине. В частности, он ввел термин «аорта», описал легочную артерию, обосновал понятие «гниение», которое долгое время господствовало в М. (вытеснено учением об инфекции). Учение Аристотеля о биологической целесообразности, в т.ч. о взаимодействии органов в организме, а также о жизни и развитии организма как о процессе целеустремленного движения к форме, оказало влияние на медико-биологические взгляды Галена, а через него на всю М. средних веков.
Эмпирическое направление древнегреческой М. известно главным образом по трудам, приписываемым Гиппократу и объединенным в «Сборник Гиппократа», который много раз переиздавался и был переведен на ряд языков. Установлено, что в этот сборник вошли произведения не только Гиппократа, но и других врачей, частично представлявших другие направления (например, школы Алкмеона Кротонского, Книдской школы и др.). Это повышает ценность сборника, давая возможность рассматривать его как собирательный труд крупнейших врачей Древней Греции во главе с Гиппократом.
Гиппократ придерживался в основном материалистических взглядов. Он учил, что «... природа тела есть точка отправления медицинского суждения». Он знал систему органов движения (кости, суставы, мышцы), что видно из применявшихся им методов лечения переломов, вывихов, растяжений. Об этом свидетельствует и использование им ортопедического станка — «скамьи Гиппократа». Объясняя процессы, происходившие в организме, авторы «Сборника Гиппократа» исходили из гуморальных представлений, согласно которым, жизнь здорового и больного организма регулируется четырьмя соками (влагами): кровью, слизью, желчью (желтой и черной). Каждому из четырех соков соответствует определенный темперамент: крови — сангвинический, слизи (флегме) — флегматический, желтой желчи — холерический, черной желчи — меланхолический. Классификация психологических типов (хотя и примитивно понимаемых) связана у древнегреческих врачей с физиологической классификацией организмов по особенностям их строения и функций. И.П. Павлов в труде об общих типах высшей нервной деятельности указал, что Гиппократ «уловил в массе бесчисленных вариантов человеческого поведения капитальные черты». Гиппократ понимал организм как единое целое. Он писал, что болезни начинаются во всем теле. «Части служат причиной болезни одна другой... в самой маленькой части находится все то же, что в самой большой». Произведение «О священной болезни» (эпилепсии) ясно выражает материалистические взгляды Гиппократа: «... нисколько не божественное, а нечто человеческое видится мне во всем этом деле... причина этой болезни... есть мозг».
Болезни Гиппократ делил на два основных типа: болезни, свойственные всем людям в равной мере, вызываемые вдыханием вредных «миазмов» из атмосферы («эпидемии»), и болезни индивидуальные, в основе которых лежат условия жизни — питание, сон, труд и др. В его произведении «О воздухах, водах и местностях» речь идет о влиянии на здоровье внешних факторов среды, т.е. фактически о гигиене. Обращаясь к молодому врачу, Гиппократ учил его по прибытии в новый город прежде всего знакомиться с его климатом, почвой, водой, питанием и всем образом жизни населения: «... кто... хорошо узнает все эти пункты... от того не смогут укрыться ни болезни, свойственные местности, ни то, какова природа общих болезней, так что он не будет затрудняться или заблуждаться в лечении их; а это последнее обыкновенно случается, если кто,... предварительно узнавши, не поразмыслит о всех этих условиях». Ряд произведений, вошедших в «Сборник Гиппократа» («О ранах», «О вправлении суставов», «О фистулах»), и предлагаемые рациональные приемы перевязок, вытяжения, способов наложения шин и др. обнаруживают опыт участия в войнах.
Врачи Древней Греции, не располагавшие методами инструментального исследования, в совершенстве владели искусством непосредственного наблюдения больного. О врачебной наблюдательности Гиппократа свидетельствуют его образные сравнения: шум трения плевры он сравнивал с хрустением ремня, хрипы в легких — с кипением уксуса. Применявшееся им выслушивание ухом грудной клетки не получило после него достаточного развития. Принцип терапии Гиппократа, как и большинства врачей древности, — «противоположное есть лекарство для противоположного»: лечение переполнения — опорожнением, опорожнения — наполнением, переутомления — отдыхом и т.п. Наряду с использованием небольшого проверенного арсенала лекарств Гиппократ большое внимание уделял гигиене («диете»): образу жизни, окружению, питанию, сну. Большое значение придавал Гиппократ вопросам врачебной этики и поведения врачей («Клятва», «О враче» и др.). Однако считают, что Клятва Гиппократа не является оригинальным произведением: профессиональные обязательства сходного содержания встречаются в более ранних источниках Древнего Востока, в частности в древнеиндийских. Законченное литературное оформление «Клятва» получила в Александрии.
Гиппократ уделял внимание как организму больного, его «природе» (физис), так и окружающей среде. Учитывая особенности «природы» больного и придавая большое значение самоизлечению организма, Гиппократ учил врачей умело направлять эту «природу» к излечению, не насилуя организм, но и не устраняясь от вмешательства: «природа исцеляет, но лечит врач». Гиппократ учил «... перенести мудрость (философию) в медицину, а медицину в мудрость (философию)», иными словами, необходимо связывать теоретическую и практическую деятельность. В целом учение Гиппократа и врачей его школы характеризовалось «драгоценным чувством меры», которое было присуще греческому искусству и греческой диалектической философии. Основные принципы учения Гиппократа служили предупреждением против односторонних, метафизических увлечений и ошибок, которых было немало в последующем развитии медицины.
Наследие Гиппократа и его школы сыграло большую роль в развитии М. В конце 19 — начале 20 в. на почве неудовлетворенности врачей и больных узкотехническим и локалистическим направлением в М., а также под влиянием пессимистических, упадочнических философских систем возник лозунг «Назад к Гиппократу». Отвергая этот антинаучный лозунг, прогрессивная М. в то же время хранит, использует и развивает ценные стороны наследия Гиппократа, так же как и все ценное наследие прошлого.
Представители Книдской школы пытались выделить отдельные группы болезней, построить подобие нозологии и систематики болезней. Однако эти попытки не увенчались успехом. Из клинического наследия книдских врачей значительный интерес представляют работы в области гинекологии. Они проводили исследования per vaginum, чтобы установить состояние влагалища, шейки матки, используя для этой цели зонд; при опущении матки применялись теплые ароматические промывания, умели вправлять матку при ее выпадении и смещении, вводили в полость матки лекарственные средства и т.д. Из Книдской школы вышел Эразистрат, которому вместе с Герофилом — учеником Проксагора Косского — было суждено сделать выдающийся вклад в развитие М. в период эллинизма, когда в связи с походами Александра Македонского греческая культура и медицина широко распространились на Востоке.
Медицина эпохи эллинизма. Этап в истории стран Восточного Средиземноморья со времени походов Александра Македонского до завоевания их Римом (завершилось к 30 г. до н.э.) получил название эпохи эллинизма. В середине 4 в. до н.э. началось усиление Македонии. К 346 г. до н.э. македонский царь Филипп II подчинил значительную часть материковой Греции (Фессалию, Фокиду, Халкидику, Фракийское побережье). Сын Филиппа II Александр Македонский (правил в 336—323 гг. до н.э.), разгромив персидское государство, основал огромную мировую державу, которая после его смерти распалась на несколько крупных монархических так называемых эллинистических государств во главе с диадохами — видными военачальниками македонской армии: Иранское государство Селевкидов, эллинистический Египет Птолемеев, Греко-бактрийское государство и др.
Эпоха эллинизма характеризуется взаимодействием и взаимопроникновением местных и греческих социально-политических отношений и культурных традиций. Вместе с тем эллинистическая культура не была единой для всей территории эллинистического мира. В каждой области, она формировалась как синтез наиболее устойчивых традиционных элементов местной культуры и привнесенной завоевателями, главным образом греческой культуры.
Наиболее характерная черта религиозных представлений той эпохи — синкретизм, в котором восточное наследие играло преобладающую роль. Боги греческого пантеона отождествлялись с восточными и наделялись новыми чертами, менялись формы религиозных обрядов, приобретая в ряде случаев выраженный оргиастический характер. Эллинистические цари, используя древневосточные традиции, усиленно насаждали культ царя.
Философия обогатилась новыми направлениями: возникли три новые философские школы — скептицизм, стоицизм и эпикуреизм. Скептики призывали переходить от поисков невозможного, по их мнению, объективного знания к исследованию разумной вероятности. Стоики возродили учение Гераклита, рассматривая мир как живой организм, пронизанный творческим первоогнем — пневмой, создающей космическую «симпатию» всех вещей. Учение Эпикура (342 или 341—271 или 270 гг. до н.э.) было основано на анатомических представлениях Демокрита. Эпикур считал истинной природой человека способность к ощущениям, а смыслом и конечной целью жизни — достижение удовольствия, которое он понимал как отсутствие страдания. Достижение удовольствия невозможно без аскетических самоограничений, Источником знания, по Эпикуру, являются ощущения и понятия из повторений ощущений или их предвосхищений. Школа Эпикура оказала значительное влияние на мировоззрение эллинистической эпохи.
Эпоха эллинизма — период значительного развития естественнонаучных знаний, выделения естествознания из философии. Возникли научные центры — Александрия, Антиохия, Пергам, остров Родос; крупнейшим из них был Александрийский музейон, основанный в начале 3 в. до н.э. по инициативе ученика Аристотеля Деметрия Фалерского. В эллинистической Александрии греческая наука начала непосредственно соприкасаться с проблемами, техникой и естественнонаучными представлениями древних восточных культур — египетской, месопотамской и даже индийской. В Александрийской библиотеке (основана в начале 3 в. до н.э.) насчитывалось в разные периоды времени от 100 тыс. до 700 тыс. свитков. Помимо произведений древнегреческих авторов имелись работы ученых Египта, Месопотамии, Палестины, Ирана, Индии. По мнению английского физика и историка науки Дж. Бернала (1954), в Александрии «впервые в истории человечества были предприняты преднамеренные и сознательные попытки организации и субсидирования науки», а Александрийский музей был «первым государственным исследовательским институтом».
В Александрийском музейоне работали выдающиеся ученые своего времени, с именами которых связаны многие открытия в области математики, астрономии, механики, географии, ботаники и медицины. Александрийские математики (Евклид, Евдокс, Книдский, Николид и др.) детально разработали вопросы планиметрии, подошли к дифференциальному и интегральному исчислению. Геоцентрическая система мира Птолемея (около 90—168 гг. н.э.) господствовала в астрономии в течение более чем тысячелетия. Еще раньше Аристарх Самосский (около 310—220 гг. до н.э.) впервые изложил гелиоцентрические представления о строении Вселенной, окончательно доказанные Н. Коперником лишь в 1543 г. Архимед (около 287—212 гг. до н.э.) заложил основы теоретической механики, Теофраст (372—287 гг. до н.э.) обобщил накопленные знания в области ботаники.
Медицина народов эллинистического мира также представляла собой синтез местных и греческих медицинских представлений. Эллинистические города отличались высоким уровнем санитарного благоустройства. Имеются сведения о наличии в них крупных больниц и аптек при них. Успешно развивались знания в области хирургии, анатомии, физиологии. Александрийские хирурги были знакомы с перевязкой сосудов, наркозом (главным образом применяли вытяжку корня мандрагоры). Это давало возможность производить, например, ампутацию конечностей. Значительные успехи были достигнуты в Александрии в области анатомо-физиологических знаний. Наиболее видными врачами того периода (3 в. до н.э.) были Эразистрат и Герофил. Они занимались вскрытием трупов, прежде запрещенным, и даже иногда вивисекцией. Эразистрат изучал головной мозг, продолжая исследования Алкмеона Кротонского. По некоторым данным, он различал чувствительные и двигательные нервы. Исследуя сердце, описывал его камеры, заслонки, сокращение сердечной мышцы, ход сосудов. Им были описаны желудок, перистальтика кишечника. Если Эразистрат сосредоточил свое внимание больше на физиологических функциях, то его современник Герофил — на строении органов. На дне четвертого желудочка мозга, по мнению Герофила, локализовалась «мыслящая душа». Им дано также название двенадцатиперстной кишке. И Эразистрат, и Герофил имели обширную хирургическую практику, большое число учеников. Под влиянием Герофила и Эразистрата на рубеже 3 и 2 вв. до н.э. возникла школа врачей-эмпириков (Филипп Косский, Серапион Александрийский и др.), признававшая опыт единственным источником медицинских знаний.
Значение Александрии как медицинского центра сохранялось еще в течение нескольких веков. Крупнейшие врачи получали образование либо совершенствовались в Александрии. Значительное влияние оказала Александрийская медицинская школа на формирование виднейшего врача Рима Галена.
Эллинистическая М., сложившаяся в результате взаимопроникновения медицинских знаний и представлений народов Древней Греции и Востока, не только сохранила важнейшие культурные традиции стран Восточного Средиземноморья, но и оказала определяющее влияние на формирование древнеримской М., а затем была воспринята византийцами и арабами и составила в конечном итоге основу развития европейской медицины.
Медицина в Древнем Риме. Сведения о коренном населении основной территории древнеримского государства — Аппенинского полуострова — малочисленны. Известно только, что не позднее начала 1 тысячелетия до н.э. его северо-западная часть населяли этруски — народность, возникшая в результате смешения племен, пришедших с востока, с коренным населением. В 8 в. до н.э. появилась этрусская письменность (буквенно-слоговое письмо), имеющая сходство с греческой. Этруски создали развитую цивилизацию, предшествовавшую римской и оказавшую на нее большое влияние. В южной части Аппенинского полуострова располагались греческие колонии, основанные ахейскими, дорическими и ионийскими племенами, — так называемая Великая Греция. Среднюю часть п-ова с конца 2 тысячелетия до н.э. населяли индоевропейские италийские племена — умбры, латины, сабины и др. Римская народность возникла в результате смешения главным образом латинских и сабинских племен. Согласно археологическим данным, Рим образовался в результате слияния латинских поселений, древнейшее из которых возникло около 10 в. до н.э. По античному преданию, образование Рима как города и государства относится к 754—753 гг. до н.э. В этом предании названо 7 царей, правивших Римом в 8—6 вв. до н.э.; последние 3 царя принадлежали к этрусской династии.
В социальном отношении свободное население Рима делилось на патрициев и плебеев. К полноправному населению («римскому народу») до середины 6 в. до н.э. относились только патриции; они участвовали в народных собраниях, старейшины патрицианских родов составляли сенат, созданный, по преданию, еще основателем города Ромулом (8 в. до н.э.). Патриции составили экономически господствующее сословие, владевшее крупными земельными наделами и рабами. Плебеи этого времени могут быть отождествлены с мелкими и средними землевладельцами, а также с ремесленниками.
После изгнания последнего царя Тарквиния Гордого (510—509 гг. до н.э.) в Риме почти на 500 лет установилась республиканская форма правления. Высшая исполнительная власть перешла к двум ежегодно избираемым консулам. Политическое устройство Рима приобрело черты аристократической республики. Ведущая роль в управлении фактически принадлежала сенату, хотя формально высшим органом власти считалось народное собрание. Внешняя политика характеризовалась почти непрерывными захватническими войнами. К середине 3 в. до н.э., подчинив всю территорию Апеннинского п-ова, Рим превратился в крупное рабовладельческое государство. В итоге войн с Карфагеном. Македонских войн и Сирийской войны Рим стал крупнейшей мировой державой, что способствовало широкому развитию товарно-денежных отношений и внешней торговли. Завоевательные войны сопровождались притоком огромного количества рабов; широко процветала торговля рабами, захваченными путем пиратских набегов; не было изжито, особенно в провинциях, долговое рабство. Т.о., с конца 3 в. до н.э. рабский труд в Древнем Риме играл преобладающую роль. К середине 2 в. до н.э. окончательно оформились два антагонистических класса римского общества: рабовладельцы и рабы, противоречия между которыми привели к ряду крупных восстаний рабов (Сицилийские восстания, 2 в. до н.э.; восстание Спартака, 74—71 гг. до н.э.).
В 1 в. до н.э. решающую роль в социальной и политической жизни Рима стала играть армия, опираясь на которую крупные военные и политические деятели вели борьбу за неограниченную единоличную власть. Эта борьба временами принимала форму гражданской войны (например, борьба между Марием и Суллой, между Помпеем и Цезарем). После убийства Цезаря (44 г. до н.э.) его внучатый племянник Октавиан (Август) получил фактически неограниченную единоличную верховную власть. В период с 30 г. до н.э. по 193 г. н.э. Рим достиг наибольшего территориального расширения, а само государство из органа римской аристократии превратилось в орган всего класса рабовладельцев. Социальная структура государства была сложной: классовое деление переплеталось с сословным и дополнялось делением на римских граждан и провинциалов, не имеющих ни римского, ни латинского гражданства (так называемые перегрины). Высшим сословием были сенаторы и всадники. Из них назначались чины финансового ведомства, судьи, управители территорий» и т.д. Городской плебс (простонародье) состоял из торговцев, ремесленников, наемных работников. С установлением империи плебеи утратили свое политическое значение; повседневная и общественная жизнь плебеев была поставлена под строгий контроль. С целью предупреждения волнений городских плебеев, а также борьбы с набиравшим силу христианством правительство прибегало к благотворительности: только в самом Риме 100—150 тыс. бедняков получали даровой хлеб, мясо и масло, а также бесплатное лечение. По случаю праздников раздавались дополнительные лары, устраивались дорогие зрелища.
Относительно высокий уровень общественного и экономического развития сохранялся недолго. В 3 в. от империи отпали Галлия, Испания и Британия. В целом наблюдался кризис рабовладельческого способа производства. Сложившиеся тенденции привели к необходимости деления Римской империи на восточную и западную. После Константина I государством правили два императора: один в западной ее части, другой — в восточной.
Древнеримская культура — первоначально культура римской общины, города-государства — прошла сложный путь развития, изменяя свой характер под влиянием этрусской, греческой, эллинистической культур по мере превращения Рима в огромную средиземноморскую державу, включавшую и такие традиционные греческие научные и культурные центры, как Афины, Александрия, Пергам. Римская философия, естествознание, медицина представляют собой в большей степени завершающий этап развития эллинистической культуры, нежели оригинальное явление.
В 7 в. до н.э. возникла латинская письменность, восходящая (через этрусское) к греческому письму. В 5 в. до н.э. в Риме появились элементарные школы, в которых детей обучали греческому и латинскому языкам, чтению, письму и счету. В 60-х гг. 2 в. до н.э. были созданы грамматические школы, где подростки в возрасте от 11—12 до 14—15 лет получали широкое гуманитарное образование. В риторских школах — своего рода высших учебных заведениях — юношей от 13—14 до 16—19 лет обучали ораторскому искусству. Подрастающее поколение воспитывалось в духе уважения к верованиям и обычаям предков, беспрекословного подчинения отцовской власти. Древнее законодательство предусматривало суровые наказания за нарушение родительской воли, в этом же направлении действовала государственная религия с ее обожествлением гражданских и воинских добродетелей (Дисциплины, Согласия, Благочестия и т.д.). Большое внимание в римской системе воспитания уделялось физической подготовке, спорту, приобретению гигиенических навыков.
Сведения о медицинском образовании в Риме времен республики чрезвычайно скудные. Практиковавшие в этот период главным образом греческие врачи получали образование в эллинистических центрах. Известно, что частную врачебную школу содержал Асклепиад. С 1 в. н.э. подготовка врачей, как в Риме, так и в других частях империи, входила в обязанности архиатров. Медицинские школы при архиатрах были государственными. Программы обучения, режим и образ жизни учащихся строго регламентировались. Анатомия изучалась на животных, учащиеся под руководством наставника осматривали больных.
Во 2 в. н.э. значительное распространение получили так называемые кафедры: вокруг опытных специалистов, первоначально юристов, возникали более или менее устойчивые группы учащихся. По такому же типу создавались «кафедры» риторики, философии и медицины. В Атенеуме (высшей школе в Риме, созданной по образцу Афинской академии) преподавались элементы медицины.
Римская философия и естествознание развивались под непосредственным влиянием достижений греческой философской и естественнонаучной мысли эпохи эллинизма. Почти официальной доктриной Римского государства был стоицизм с присущим ему материализмом и фатализмом. Основные положения материалистической философии Эпикура были изложены Лукрецием. В поэме «О природе вещей» Лукреций с позиций атомистического учения Эпикура изложил и некоторые медицинские проблемы. В поэме содержатся довольно точные описания болезней, указано на тесную связь душевных явлений с телесными: «... ум одновременно с телом родится и одновременно с ним и растет и стареет с ним вместе...». Касаясь причин возникновения и распространения массовых эпидемических заболеваний, Лукреций писал о «семенах болезней», невидимых носителях заразы, оседающих на пище, воде, различных предметах:
«Новая эта беда и зараза, явившись внезапно,
Может иль на воду пасть, иль на самых хлебах оседает,
Или на пище другой для людей и на пастьбах скотины,
Иль продолжает висеть, оставаясь в воздухе самом...».
По мнению многих историков медицины, представления Лукреция о мельчайших «семенах болезни», которые могут вызывать заболевание и приводить к смерти, являются в известной степени предвосхищением контагиозной теории распространения инфекционного начала, обоснованной и развитой Дж. Фракасторо в 16 в.
Описательное естествознание в эпоху поздней античности развивалось неравномерно. Ни один из трудов по зоологии не вносил ничего существенно нового по сравнению с «Историей животных» Аристотеля, зато в ботанике, являвшейся основой учения о лекарствах, наблюдался значительный прогресс. Наибольшей славой в древности и в средние века пользовалось ботанико-фармакологическое сочинение Диоскорида (1 в. н.э.), в котором описаны 600 лекарственных растений, сгруппированных по морфологическому признаку, а также лекарственные средства животного и минерального происхождения; там же впервые встречается описание опия как лекарственного средства, рекомендуемого при кашле и заболеваниях кишечника. Он советовал применять его в форме так называемого диакодина (отвар головок мака с добавлением меда). Однако вскоре в связи с тем, что эта форма использования опия была признана опасной, стали употреблять чистый маковый сок, главным образом как болеутоляющее и снотворное средство.
В 1 в. до н.э. — 1 в. н.э. сформировалось энциклопедическое направление, появилось значительное число трудов обобщающего характера, в которых излагались и сведения по медицине. Наиболее известные из них «Disciplinae» М. Варрона (116—27 гг. до н.э.), «Естественная история» Плиния Старшего (1 в. н.э.), «Искусства» А. Цельса (1 в. до н.э.). Последним крупным римским ученым считают Боэция (около 480—524 гг.), благодаря трудам которого элементы античной учености стали известны в Европе в период раннего средневековья. Традиция составления энциклопедических трудов, в т.ч. медицинских, была воспринята учеными Византии, стран Арабского Халифата, средневековой Европы.
Археологические исследования, произведенные на территории Аппенинского полуострова, дают возможность составить представление о медицинской деятельности древнейших поселенцев. Обнаружены примитивные инструменты, лекарственная посуда. Широко применялись различные лекарственные растения — вначале дикорастущие, а позднее специально культивируемые. Традиции древнего народного врачевания поддерживались и в более поздние периоды существования Римского государства. Катон Старший (234—149 гг. до н.э.) в многочисленных произведениях осуждал греческую изнеженность и отстаивал традиционную римскую простоту нравов, в частности употребление в пищу и с лечебными целями местных растений, в первую очередь сырой капусты.
К 6—5 вв. до н.э. относят создание системы санитарных сооружений в Древнем Риме — подземных водосточных труб (клоак). Главная из них cloaca maxima вошла в систему канализации современного Рима, сохранились также остатки водопровода. Римский водопровод, снабжавший город доброкачественной питьевой водой с Сабинских гор, относится наряду с египетскими пирамидами к крупнейшим из сохранившихся памятников материальной культуры древнего мира. Сооружения городского благоустройства Древнего Рима включают также здание большого рынка и общественные бани — термы, ныне частично реконструированные. Некоторые из них были рассчитаны на тысячу и более купающихся. При термах, построенных императорами Нероном, Веспасианом, Титом и др. в память о своем правлении, нередко имелись площадки для физических упражнений и состязаний, для отдыха и принятия пищи.
К 5 в. до н.э. относят наиболее ранние из дошедших до нашего времени законодательных документов Древнего Рима — так называемые Законы двенадцати таблиц. В них содержатся и установления санитарного характера: о благоустройстве кладбищ, запрещение захоронений внутри города, предписание пользоваться для питья не водой из Тибра, на берегах которого расположен Рим, а горной ключевой водой и др. Контроль за соблюдением этих постановлений входил в обязанности специальных чиновников — эдилов или попечителей — кураторов (не врачей). Имелись также специальные попечители для наблюдения за рынками, за постройкой зданий и пр.
В армии Древнего Рима существовала военно-медицинская организация с военными врачами-профессионалами (лагерными врачами, врачами легионов, трирем), которых совершенно не знала Греция, и системой военных лечебных заведений — валетудинариев. Были введены должности архиатров — главных врачей, выполняющих административные функции (придворные архиатры, архиатры в отдельных провинциях для попечения о здоровье римских воинов и чиновников). Реже встречается упоминание об архиатрах для населения. Имелись также врачи при цирках, театрах и др. Есть данные, что древнеримские врачи выступали в роли судебных медиков. В последний период существования Римской империи в центральных провинциях было определенное число так называемых утвержденных государством врачей, имеющих право практиковать. В некоторых случаях для получения этого звания врачи подвергались специальному испытанию у архиатров провинций. Наличие подобных ограничений может расцениваться как свидетельство того, что в последние века Римская империя располагала достаточным количеством врачей.
Вслед за учреждением валетудинариев в провинциях Рима возникают больницы, предназначенные для лечения многочисленных чиновников и членов их семей. Вероятно, в конце 1 в. н.э. появились больницы для бедных; финансируемые органами городского управления. В ряде городов частные больницы начинают получать субсидии от правительства и, т.о., приобретают черты общественных медицинских учреждений.
Римская медицина развивала традиции М. эллинизма. Учениками эллинистических школ были виднейшие римские врачи — Асклепиад, Гален, Соран Эфесский и др.
Асклепиад на базе материалистических атомистических воззрений и этики Эпикура создал оригинальные представления о сущности здоровья и болезни, принципах терапии. Он считал, что человеческое тело состоит из неподвижных мельчайших частиц и пустых пространств между ними — пор и каналов и что болезнь является следствием закупорки этих пор и каналов и нарушения движения частиц. Особое значение Асклепиад придавал «невидимому дыханию» поверхности тела (испарению); для того чтобы оно не нарушалось, необходимы частые омовения, растирания, двигательная активность. Принцип Асклепиада — лечить безопасно, быстро и приятно. Лекарственной терапии он уделял мало внимания, применял висячие койки для успокоения возбужденных больных, трахеотомию — при ангинах (возможно, при дифтерии) «с опасностью удушения» (видимо, крупа), выступал против периодических очищений организма с помощью рвотных и слабительных средств (которыми широко пользовались древнеегипетские и древнегреческие врачи) и вообще осуждал использование лекарственных средств, нарушающих деятельность кишечника. Последователи Асклепиада образовали так называемую методическую школу, виднейшими представителями которых были Темисон Траллесский, Соран Эфесский (2 в. н.э.). Эти врачи внесли некоторые изменения в представления Асклепиада о причинах болезни. В частности, они считали, что жизнедеятельность обеспечивается не только соотношением жидкостей (гуморальное учение), но и твердых частиц (солидарное учение); соединение жидких и твердых частиц создает состояния напряжения и расслабления, правильное соотношение которых обусловливает здоровье. Врачи методической школы ввели в М. идею тонуса (равновесного состояния напряжения и расслабления), при повышении или снижении которого возникает болезнь; внесли заметный вклад в клиническую медицину. Темисону приписывают внедрение в практику опия как средства борьбы с двигательным и психическим возбуждением. Сочинения Сорана Эфесского посвящены главным образом вопросам детских и женских болезней. Многие историки называют его основоположником акушерства и педиатрии. Соран Эфесский один из первых писал об особенностях течения болезней в детском возрасте, выделяя болезни грудных детей) детей младшего возраста и подростков. Он считал, что лечебная тактика при детских болезнях во многом зависит от возраста ребенка. Целий Аврелиан (3—4 в. н.э.) оставил труд, обобщивший достижения Асклепиада (собственных трудов которого мы не знаем) и врачей методической школы. Описания болезней у Целия включают сведения об этиологии, механизмах развития заболевания, морфологических изменениях; сравнительно подробно излагаются история вопроса, симптоматология, диагностика с элементами дифференциального диагноза, и терапия. Им была описана водобоязнь, выделены чувствительные и двигательные параличи: при параличах нижних конечностей он предлагал пользоваться аппаратом, посредством которого можно было поднимать пораженную конечность. Целий ввел понятия асцита и тимпанита (метеоризма), описал их дифференциальную диагностику. Много внимания Целий уделял психическим расстройствам.
Представители другого направления древнеримской М. (так называемая пневматическая школа) считали основными началами природы не элементы, а их состояния (теплоту, холод, влажность и сухость) и полагали, что в основе жизни лежит дыхание. При каждом заболевании сначала поражается дыхание, а затем другие органы и их функции. Возникновение этой школы связывают с развитием воззрений Хрисиппа Книдского (4 в. до н.э.) и Герофила (3 в. до н.э.); вместе с тем основные общепатологические положения пневматической школы восходят к учению Алкмеона Кротонского и к пневматическим представлениям древних египтян. Из представителей этой школы наиболее известны Аретей Каппадокийский (81—138 гг. н.э.), Руф Эфесский (1—2 вв. н.э.). Аретей первым описал скрещивание двигательных проводящих путей, названное им «chiasma», и объяснил, почему паралич возникает на стороне, противоположной пораженному участку мозга. Он ввел понятие «обморок», описал диабет, отметил частоту заболеваний астмой среди лиц, работавших с гипсом, известью, среди истопников бань, связав ее возникновение с воздействием пылевого фактора. Наконец, ему принадлежит одно из первых подробных описаний лепры. Руф Эфесский, по мнению Орибазия и Аэция, впервые описал клинические проявления чумы.
Хирурги Древнего Рима производили операции по поводу пупочной и паховой грыж, извлекали камни из мочевого пузыря, «снимали» катаракту, лечили варикозное расширение вен прижиганиями и надрезами. Много внимания уделяли кожным болезням. В частности, Цельсу — автору известного труда «О медицине» (дошедшая до нашего времени часть его знаменитой энциклопедии «Искусство», около 25—30 гг. н.э.) принадлежит первое описание стригущего лишая, долгое время именовавшегося в литературе «Area Ceisi».
Крупнейшим врачом античного мира был Гален из Пергама (2 в. н.э.). Кроме практической врачебной деятельности Гален интересовался философией и естествознанием, главным образом анатомией и физиологией. Занимаясь вивисекцией (на свиньях и обезьянах), он расширил представления о строении органов и процессах, происходящих в организме; описал мышцы шеи, спины, гортанные, жевательные мышцы; установил наличие в мышцах соединительно-тканных волокон и разветвлений нервов, отметил, что стенки артерий, матки, желудка, кишок состоят из нескольких слоев. Гален указал на связь между дыхательными движениями и частотой пульса. В фармацию вошел метод изготовления лекарств, связанный с его именем — галеновы препараты. Он исследовал головной мозг и отходящие от него нервы. Перерезая спинной мозг на разных уровнях, он наблюдал выпадение функций. Перерезая нервы органов чувств, он показал связь этих нервов со способностью к ощущениям.
Гален систематизировал и обобщил гигиенические знания древних греков и римлян. Он утверждал, что каждый член общества, располагающий гражданской свободой, способен сохранить свое здоровье, если будет вести правильный образ жизни. В своих рекомендациях, рассчитанных на представителей аристократии, Гален, однако, не пошел далее указаний на важность диеты, гимнастики, ванн. Совершающиеся в организме процессы Гален приписывал изначально существующим нематериальным силам, например рост костей — костеобразовательной силе, пульсацию артерий — силе пульсации. Считая назначением левого отдела сердца притягивание из легких пневмы (с воздухом), он принимал диастолу за активное движение сердца, систолу — за пассивное спадение. Центр кровеносной системы он видел в печени: образующаяся здесь кровь разносится по телу и целиком им поглощается, в печени же немедленно образуется следующая партия крови. Эта схема кровоснабжения господствовала до 17 в., когда было изучено кровообращение. По Галену, стенки левого сердца толще и тяжелее стенок правого, благодаря чему левое сердце, в которое поступают пневма, имеющая незначительный вес, и разжиженная ею кровь, уравновешивается с правым, куда проникает кровь большего веса. Стенки артерий толще и плотнее стенок вен, т.к. они должны удерживать содержащуюся в артериях летучую пневму, а стенки вен пористые, чтобы кровь могла через поры питать тело. Разделяя идеи гуморального учения, Гален в отличие от Гиппократа истолковывал его идеалистически; соки он наделял свойствами нематериальных сил, управляющих телом. В средние века церковники и схоласты поступили с учением Галена так же, как с учением Аристотеля. Его рациональные стороны не использовались, экспериментальный метод был забыт, а надуманная анатомо-физиологическая схема стала официальной догмой. В таком одностороннем виде наследие Галена оставалось знаменем схоластической медицины (галенизм) на протяжении более чем тысячи лет.
В 2—3 вв. н.э., когда резко обозначились черты экономического, политического и культурного кризиса Римской империи, росло число приверженцев восточных божеств, культ которых связывался с верой в бессмертие души, приход некоего спасителя, с обещаниями верующим и посвященным вечного блаженства в загробном мире. С 1 в. н.э. среди рабов и бедноты стало распространяться христианство, которое постепенно проникало и в привилегированные слои римского общества. Одновременно начался процесс подчинения философии религии. Синтез идеалистических положений учения Аристотеля, платонизма и неопифагореизма породил новое философское направление — неоплатонизм, традиции которого продолжали христианские философы и средневековые схоласты.
Медицина феодального общества
Переход к феодализму условно датируется 476 г., когда пала Западная Римская империя. Однако в различных регионах он осуществлялся в разные сроки (от 2—3 до 6—8 вв.), поэтому рабовладельческие и феодальные отношения длительное время сосуществовали.
Идеологической основой феодализма стали так называемые организованные монотеистские религии, характерными особенностями которых были централизованная церковная организация, строгая иерархия, регламентация обрядов и как объединяющее начало догма, включающая веру в бессмертие души, определенную, зафиксированную в священных книгах картину мира, а также противопоставление духовного начала телесному и примат первого над последним. В качестве этических норм проповедовались пренебрежение земными благами, смирение, аскетизм, бренность и греховность земного существования; в области познания — преимущество вдохновения и откровения над чувственным познанием и разумом. В связи с этими особенностями организованные религии по мере распространения их влияния и превращения их в господствующее мировоззрение становились фактором, тормозившим развитие естественнонаучной мысли.
Особенности феодального способа производства определяли не только характер господствующего мировоззрения и политической организации общества, но и специфические черты социально-психологического склада личности (общинная замкнутость, традиционность мировосприятия и др.) и культуры. Для феодальной культуры характерны приверженность традициям и преклонение перед книжными авторитетами, прежде всего авторитетом священных книг и трудов канонизированных авторов древности. Традиция, а не опыт считалась источником всякого знания. Научное наблюдение, и все новое, не подкрепленное книжным авторитетом, обычно рассматривалось как ересь.
Процесс формирования теологической картины мира продолжался несколько веков и заключался главным образом в приспособлении философских систем древности и отдельных естественнонаучных достижений к догмам веры (например, христианская картина мира включала космологическую схему Аристотеля — Птолемея и анатомо-физиологические представления Галена, из которых были выхолощены материалистические положения и идея развития; эта же картина мира была принята исламом). Однако до тех пор, пока теологическая догма не сформировалась окончательно и религия не заняла господствующего положения в культуре, в регионах, где феодализм пришел на смену развитому рабовладельческому обществу, происходило дальнейшее развитие просвещения, техники, естественнонаучных знаний. В Византии, Иране эпохи Сасанидов, Индии 1 тысячелетия н.э., Хорезмском царстве были сделаны выдающиеся открытия в области математики, астрономии; высокого уровня развития достигла практическая М. Завоевав территорию Ближнего Востока, Ирана и Средней Азии, арабы восприняли культуру покоренных народов. На основе общности языка арабские ученые вместе с учеными Ирана и Средней Азии внесли значительный вклад в развитие культуры, естествознания и медицины. Лишь к 9 в. в Индии и к 12 в. в арабоязычных странах обнаруживаются застойные процессы в области просвещения, культуры, естественнонаучной мысли.
Иная ситуация сложилась в Западной Европе. Переход к феодализму имел здесь характер революционного процесса, проходил в форме синтеза разлагавшихся рабовладельческих (позднеантичных) и первобытнообщинных отношений на фоне хозяйственной дезорганизации, вызванной падением Западной Римской империи. Видимо, поэтому в эпоху раннего средневековья в Западной Европе (в отличие от стран Востока) не отмечено сколько-нибудь существенного экономического прогресса. Наследницей позднеантичной культуры стала христианская церковь. Священнослужители и монахи получили своего рода монополию на образование и ученость. Общий уровень культуры и образованности по сравнению с позднеантичным периодом значительно снизился. Это, однако, не означает, что народы, населявшие Европу, в этот период не получили никаких культурных приобретений (они приспособили латинский алфавит к своим диалектам; имелись, хотя и немногочисленные, светские школы и др.). Кроме того, на территории Италии, Южной Франции и Испании сохранились позднеантичные культурные традиции, хотя и подвергшиеся значительному церковному влиянию.
Духовная жизнь общества в этот период была сосредоточена главным образом в сфере теологии, что, однако, не означает упадка культуры и знания в целом. Именно в этот период появились первые университеты, развивались города, ставшие центрами торговли, ремесла и образования. Возникло новое, так называемое третье сословие, представлявшее собой оппозицию феодализму как способу производства и феодальной культуре, сословие, которому было суждено стать провозвестником Возрождения и науки Нового времени.
Под влиянием арабской учености, начавшей проникать в Европу в 11—12 вв., появился первый робкий интерес к опытному знанию. Так. Р. Гроссетест (около 1168—1253) опытным путем проверил рефракцию линз, ему же наряду с Ибн аль-Хайсамом (965—1039) приписывают внедрение в практику линз для коррекции зрения; Р. Луллий (около 1235—1315) — один из создателей алхимии — занимался поисками «эликсира жизни». Споры и труды средневековых схоластов способствовали развитию логики, алхимия подготовила возникновение научной химии и т.д. Вместе с тем интеллектуальная жизнь средневековой Европы ничего не дала для развития кардинальных проблем естествознания и даже способствовала некоторому регрессу в сфере естественнонаучных знаний. Р. Бэкон (около 1214—1292) был, пожалуй, первым европейским средневековым мыслителем, призвавшим науку служить человечеству и предсказавшим завоевание природы путем ее познания. Однако понадобилось почти два века интеллектуального развития, прежде чем «титаны Возрождения» вывели естествознание из забвения и оно оказалось в центре интересов образованных кругов европейского общества.
Господство теологического мировоззрения, традиционного мышления и застой в естествознании сильно сковывали прогресс в области М. Однако развитие М. не остановилось. В период становления феодализма наиболее благоприятные условия для развития М. сложились в восточных регионах. Византийские врачи-энциклопедисты систематизировали наследие эллинистической и позднеантичной М. с позиций анатомо-физиологических представлений Галена. Китайские врачи Сунь Сы-мо, Ван Тао (8 в.), Цянь И (11 в.) составили медицинские энциклопедии, в которых по сравнению с обобщающими трудами древности значительно полнее представлены данные по клинической медицине. В 1111 г. коллегией китайских врачей была подготовлена 200-томная медицинская энциклопедия «Шэнь-цзы-цзунь лу», в которой был обобщен многовековой опыт китайской медицины. В Индии Бхаскара Бхатта (1000 г. н.э.) не только обобщил достижения древнеиндийской М., но и дополнил их новыми данными по анатомии, диагностике и терапии. Синтезу традиций позднеантичной, иранской и индийской М. способствовала деятельность врачей Гундишапурской академии. Арабские и среднеазиатские врачи внесли наиболее существенный вклад в развитие всех отраслей практической М. средневековья. Труды Рази (Разеса), Ибн Аббаса, Абу-ль-Касима (10—начало 11 в.) и особенно Ибн Сины долгое время служили основными руководствами для подготовки врачей в странах Востока и Европы, оказали огромное влияние на дальнейшее развитие медицины.
Теоретическая М. вплоть до эпохи Возрождения, ознаменовавшейся революцией в анатомии, практически не развивалась. До А. Везалия господствовали анатомические представления Галена. Пневматическая теория и гуморальное учение в физиологии и патологии остались практически незыблемыми, если не считать ртутно-серной теории, возникшей в Китае (как аналогия начал «ян» и «инь»), развитой арабскими алхимиками и послужившей в дальнейшем основой для спагирической теории Парацельса.
В период развитого и позднего феодализма обозначилась связь М. и химии, зародилось ятрохимическое направление, сыгравшее значительную роль в развитии медицины в 17—18 вв.
Из областей практической М. наиболее существенный вклад был внесен в хирургию и инфекционную патологию. Расширился объем хирургического вмешательства, были усовершенствованы методы лечения ран, внедрена в практику перевязка сосудов, известная еще древним египтянам и врачам александрийской школы, созданы ортопедические аппараты. Была уточнена клиническая картина ряда инфекционных болезней и предложены новые способы борьбы с ними. Рази посвятил специальный труд оспе и кори. Армянский врач М. Гераци детально описал различные формы малярии (1184). Дж. Фракасторо сформулировал контагиозную теорию распространения инфекционных болезней, явившуюся развитием контагионистских воззрений Лукреция и Ибн Катиба (1313—1374). В целях борьбы с непрекращающимися эпидемиями были разработаны и законодательно оформлены противоэпидемические мероприятия (изоляция инфекционных больных, запрещение хоронить умерших от инфекционных болезней в черте населенных мест, установление карантина и др.). изданы законы по санитарной охране водоисточников (в черте города), установлен надзор за качеством продаваемых пищевых продуктов. Наиболее видные представители медицины Востока — Ибн Аббас, Ибн Сина и некоторые их последователи настойчиво стремились возродить восходящий к Гиппократу принцип наблюдения у постели больного и индивидуализации диагностики и терапии. Эта тенденция, в целом не свойственная М. феодализма, получила некоторое развитие в Европе лишь в 16 в. В частности, ее носителями стали профессор из Падуи Дж. Монтано (1489—1552) и его многочисленные ученики. Клинические традиции школы Дж. Монтано получили развитие в 17 в. в Лейденском университете.
В эпоху феодализма были внесены существенные изменения в систему подготовки врачей и организации медицинской помощи. Наряду с монастырскими широкое распространение получили ремесленные, цеховые школы; подготовкой врачей занимались и университеты, к концу 16 в. вытеснившие ремесленную форму подготовки врачей. В городах Востока и Европы был установлен определенный порядок получения права на врачебную практику, имелись городские врачи, на которых возлагался контроль за деятельностью практических врачей, акушерок и аптекарей. Однако это не мешало широко и официально заниматься врачеванием астрологам и прорицателям, число которых и в странах Востока, и в Европе было достаточно внушительным. В эпоху феодализма окончательно сложилась больничная форма медицинской помощи. Первые больницы появились в 4 в. в Византии и Армении, затем больничное дело получило развитие в странах Арабского халифата и в Европе. В 754 г. в Багдаде была открыта первая аптека. В 11 в. аптеки появились в городах Испании, а затем и других странах Западной Европы.
В эпоху феодализма завершилось развитие идей М. древних цивилизаций, прежде всего греко-эллинистической М. Европейское Возрождение ознаменовало появление новых теоретических и клинических представлений, освобождающихся от пут религиозно-догматических наслоений. Центр научной М. переместился в Европу, где на основе формирующегося более рационального и передового мировоззрения начала создаваться научная медицина.
Медицина Византии. После падения Западной Римской империи единственным наследником античной культуры стала Византия, в состав которой входили центры традиционной древней и эллинистической культуры (Египет, Месопотамия, Греция, Малая Азия).
Отличительной чертой становления феодализма в Византии в 4—7 вв. было спонтанное развитие феодальных отношений внутри разлагающегося рабовладельческого общества в условиях сохранения централизованной военно-бюрократической монархии, элементов рабовладения и значительной роли городов в политической, экономической и культурной жизни государства. С 4 в. господствующей религией стало христианство. В 4—7 вв. сформировалась христианская догматика, сложилась церковная иерархия. С конца 4 в. стали возникать монастыри, одной из функций которых была благотворительная деятельность, в т.ч. лечение больных и призрение стариков и увечных. Церковь превратилась в богатую организацию, обладавшую многочисленными земельными владениями.
Византийская культура сложилась на основе христианского мировоззрения под влиянием греческих, римских и эллинистических традиций, В период становления христианского богословия (4 в. — первая половина 7 в.) культура Византии еще носила преимущественно городской характер, достижения античной научной мысли играли ведущую роль в духовной жизни общества (так называемый протовизантийский период). Для этого периода характерно сопротивление наиболее образованных кругов византийского общества официальной христианской догматике, принимавшее форму еретических течений. Так, известно, что хотя христианство было объявлено государственной религией в конце 4 в., первым греческим ученым, признавшим официальную христианскую догматику, был Филопон (530), а первым врачом — Аэций Амидийский (около 540). Наиболее крупными еретическими течениями являлись арианство (4 в.) и несторианство (5 в.), для которых характерны попытки в рамках христианского учения сохранить отдельные рациональные начала античных естественнонаучных представлений и устранить из официальной догматики некоторые мистические толкования. Оба течения были осуждены церковными соборами. Несториане бежали в Иран, где приняли участие в создании известного научного центра — Гундишапурской академии. Арианство и несторианство во многом способствовали сохранению и развитию рациональных начал античной медицины, особенно в Иране и Средней Азии, оказали влияние на распространение античного (греко-римского) наследия в странах Арабского халифата, на формирование религиозно-философских течений, противостоявших официальной догматике ислама. Не позднее середины 7 в. византийская культура приобрела черты феодальной культуры. Компилятивность и традиционность постепенно стали основными формами познания. Получили распространение мистические и астральные представления, в частности в медицине усилился интерес к астрологическим и гадательным приемам определения прогноза болезней, мистическим ритуалам, сопровождавшим лечение, к амулетам и заговорам. Опираясь на божественную абсолютную истину. византийцы четко разделяли все явления на благие и дурные, давая всему существующему, в т.ч. результатам научного творчества, прежде всего этическую оценку. Это обусловило нетерпимость ко всякому инакомыслию, которое трактовалось как «уклонение от благого пути».
Рассматривая свою культуру как высшее достижение человечества, византийцы долгое время сознательно ограждали себя от иноземных влияний. Лишь с 11 в. они начали использовать опыт арабской М., позднее возник интерес к арабской и иранской математике и астрономии, к латинской схоластике.
Просвещение в Византии находилось на более высоком уровне, чем в Европе. Чтению и письму обучали в частных грамматических школах. В программу среднего образования («энциклиос педиа») входили орфография, грамматика, принципы стихосложения, ораторское искусство и философия. Последняя подразделялась на теоретическую, включавшую богословие, математику и «физиологию» (учение об окружающей природе с элементами теоретической и практической М.), и «практическую» (этика, политика и экономика).
В 4 в. — первой половине 6 в. продолжали существовать высшие школы в Афинах, Александрии, Бейруте, Газе и Кесарии Палестинской, где в числе других дисциплин преподавалась и медицина. В 425 г. высшая школа открылась в Константинополе. Элементы естествознания в этой школе читались в курсе философии. Профессора школы относились к государственным служащим. В 529 г. Юстиниан I закрыл провинциальные высшие школы как рассадник язычества и ереси. Оставшаяся единственной Константинопольская школа просуществовала до 726 г., когда, согласно бытующей легенде, по приказу императора Льва III здание школы было сожжено вместе с ее учителями и книгами.
Подготовка врачей проводилась в школах при монастырских и гражданских больницах, которые существовали в Византии уже в 4 в. и в которых обычно работали опытные и образованные врачи. К обучению в медицинских школах допускались лишь лица, прошедшие полный курс «энциклиос педиа». Учебный процесс находился под контролем церковных и светских властей. При обучении исходили из анатомо-физиологических и общепатологических представлений Галена; для преподавания практической М. широко использовались труды Гиппократа, античных и особенно византийских врачей-энциклопедистов. Учащиеся школ под руководством наставников участвовали в осмотрах больных и их лечении. Вопрос о предоставлении выпускнику школы права на врачебную практику решался индивидуально церковными и светскими властями той территории, где он собирался практиковать. Причем за властями оставалось право подвергнуть претендента на врачебную должность экзамену, который принимала специально назначенная коллегия врачей. В середине 11 в. в Константинополе открылась высшая школа с юридическим и философским факультетами. В начале 12 в. на философском факультете наряду со «светскими» науками в качестве смежного предмета преподавалась М. Несколько позднее в этой школе был организован медицинский факультет. Наличие медицинского факультета в высшей школе, где преподавание медицинских дисциплин в известной степени увязывалось с преподаванием других наук, было, несомненно, шагом вперед в медицинском образовании. Однако, по имеющимся сведениям, осмотры и демонстрации больных на медицинском факультете не практиковались, т.е. преподавание практической М. было поставлено хуже, чем в школах при больницах. В 1204 г. Константинопольская высшая школа прекратила свое существование. Ее философский факультет слился с основанной в конце 11 в. Патриаршей школой, а медицинский факультет — со школой при церкви св. Апостола в Константинополе.
Наследие византийской М. изучено недостаточно полно. До сравнительно недавнего времени сохранение, развитие и передачу традиций античной М. связывали главным образом с трудами арабских врачей. Лишь в последние десятилетия установлено, что в систематизации и распространении античного наследия важнейшая роль принадлежала и византийской культуре. Крупнейшие центры эллинистической культуры (Египет, Малая Азия, Сирия и др.) до завоевания их арабами входили в состав Византийской империи. Первичная систематизация античного наследия, в т.ч. наследия позднеантичных врачей, была осуществлена в Византии в период, непосредственно предшествовавший арабским завоеваниям. Более того, византийские ученые, несомненно, способствовали распространению традиций античной М. на Востоке. В частности, несториане из Эбессы и неоплатоники из Афин были создателями Гундишапурской школы (академии). Воспринятый у древних греков и римлян опыт создания стационаров с медицинскими школами при них получил развитие в Византии уже в 4—5 вв. Итак, имеются достаточные основания считать, что через посредство народов, населявших Византию, народы Ирана, Средней Азии, а в дальнейшем и арабы восприняли наследие позднеантичной М. в первично систематизированной форме. Византийцы, по-видимому, заложили основы больничного дела.
Энциклопедические медицинские труды византийских врачей 4—7 вв. принципиально отличались от обобщающих трудов римских энциклопедистов. Это были уже не сборники мнений различных авторов, не компиляции в полном смысле этого слова, а систематизированные обзоры медицинских знаний, составленные на основе единых анатомо-физиологических и общепатологических концепций и включающие большой объем сведений и рекомендаций практического характера, почерпнутых и из собственных наблюдений авторов. Византийские врачи-энциклопедисты первыми осуществили ревизию античной М. с позиций анатомо-физиологических и общепатологических представлений Галена. По-видимому, именно в ранневизантийской М. следует искать истоки галенизма. Первый византийский врач-энциклопедист Орибазий (325 или 326—402 или 403), составлявший по поручению императора Юлиана обзор медицинских знаний эпохи, первоначально включил в него лишь конспекты произведений Галена и только по настоянию императора дополнил свой «Синопсис» сведениями, почерпнутыми из трудов других выдающихся античных врачей, и комментариями, содержащими собственные наблюдения. Авторитет Галена был для византийских врачей непререкаемым еще до того, как христианская церковь и ислам канонизировали его учение. Византийская церковь, активно занимавшаяся благотворительной, в т.ч. медико-санитарной, деятельностью и стремившаяся приспособить античное наследие к христианской догматике, восприняла Галена уже «в обработке» византийских энциклопедистов, которые с позиций собственных воззрений схематизировали его учение. Однако подкупающие стройность и логичность, которые придали византийские врачи наследию Галена, были достигнуты за счет известного искажения целого ряда положений его учения. Искажение наследия Галена допускали и некоторые арабские ученые, воспринявшие его труды главным образом в несторианской интерпретации и так же, как византийцы, считавшие его авторитет непререкаемым. Христианская церковь окончательно фальсифицировала наследие Галена.
При изложении практических медицинских знаний и даже отдельных анатомических деталей византийские врачи существенно дополнили труды позднеантичных врачей. Например, в «Синопсисе» Орибазия содержится первое упоминание о слюнных железах, описан связочный аппарат матки, высказаны оригинальные представления о механизме зачатия. Аэций Амвдийский (6 в.) — автор капитального труда «Шестнадцать книг о медицине» — подробно останавливается на вопросах локализации поражений головного мозга при некоторых нервных и психических заболеваниях. Аэций считал, что при бредовых расстройствах поражаются не только оболочки (как это считали многие античные врачи), но и вещество головного мозга. Труд Аэция содержит описание рациональных приемов и рекомендаций, главным образом из области акушерства, оперативной гинекологии и хирургии.
Большой популярностью в Византии и за ее пределами пользовались труды Александра Траллесского (525—605) и Павла Эгинского (625—690), оказавшие определяющее влияние на развитие хирургии, особенно военной, и служившие руководством по хирургии вплоть до 15—16 вв., а также комментарии к Галену и Гиппократу, составленные в 7 в. Иоанном и Стефаном Александрийскими.
Описания случаев эпидемий, часто возникавших в Византии, клинической картины эпидемических болезней и применявшихся противоэпидемических мер содержатся в трудах некоторых византийских историков. Так, в «Церковной истории» Эвгария (6 в.) имеется подробное описание «чумы Юстиниана» (пандемия чумы, охватившая территорию Византии, Закавказья, Южной и Центральной Европы); Григорий Турский (6 в.) описал эпидемию чумы в Галлии. Подробное описание клинической картины бубонной чумы составил Прокопий Кесарийский (6 в.). более известный как церковный писатель, а не как врач.
Среди медицинских трудов последующего времени вплоть до конца 11 — начала 12 в. ведущее место занимают «Физиологи» и «Шестодневы», где анатомо-физиологические сведения в духе Галена и рациональные диагностические, лечебные и гигиенические рекомендации переплетаются с морализацией и фантастическими рассуждениями. Лев Философ (9 в.) — врач, астролог и поэт — уделял много внимания «историям» астральных предсказаний предрасположенности к болезням и их исхода. В 10—11 вв. медицинские сведения стали включать в обобщающие труды по богословию. В трудах Михаила Пселла (1018 — около 1078 или 1096) и его преемника Иоанна Итала (вторая половина 11 в.) — крупнейших византийских богословов, оказавших непосредственное влияние на формирование схоластического направления, излагаются анатомо-физиологические представления Галена в той форме, в которой они были распространены в средневековой Европе.
Труды врачей конца 11 — 14 вв. свидетельствуют о живом интересе византийцев к достижениям арабской М. С учетом опыта арабских и среднеазиатских врачей написана книга Симеона Сифа (11 в.) о свойствах пищи. В ней содержатся рекомендации по рациональному питанию детей, беременных женщин, стариков, больных различными заболеваниями, а также по правилам хранения и кулинарной обработки различных пищевых продуктов. Книгой Николая Мирепса (13 в.) по лекарствоведению в Западной Европе пользовались как учебным пособием даже в 17 в. Последним крупным византийским врачом считают Иоанна Актуария (13 в.). В его работах не содержалось ничего принципиально нового по сравнению с трудами других византийских врачей и «Каноном врачебной науки» Ибн Сины, которым он, несомненно, пользовался, однако больший интерес представляет описание диагностической оценки исследования мочи и процедуры его проведения.
Важное мести в византийской М. занимало медико-санитарное дело. Непрекращающиеся эпидемии заставили византийское правительство сохранить существовавшие со времен Римской империи должности городских врачей для бедных. И хотя некоторые из них стремились в основном сниматься частной практикой, обслуживая состоятельных пациентов из числа обеспеченных ремесленников и торговцев, закон обязывал их бесплатно лечить городскую бедноту. Большую роль в организации медицинской помощи, прежде всего сельскому населению, играла церковь. Сооружались и гражданские больницы, финансировавшиеся также главным образом церковными властями. Эти больницы возникли на базе ксенодохий — постоялых дворов Востока, где первоначально были организованы отдельные помещения для заболевших в пути. Наиболее крупные больницы насчитывали по несколько сотен коек, в них имелись профилированные отделения (хирургические, женские и т.п.). В византийских больницах практиковали опытные врачи, существовал больничный устав, который с незначительными изменениями был принят в последующем и древнерусскими монастырскими больницами. При больницах имелись аптеки, открывались медицинские школы. Византийские больницы послужили прототипом для создания подобных учреждений в странах Востока и Западной Европы. Другой формой развития больничного дела была организация изоляторов для больных инфекционными болезнями, из которых в дальнейшем после создания монашеского ордена св. Лазаря возникли убежища для призрения прокаженных — лазареты. Позже часть лазаретов была преобразована в больницы, часть — в богадельни.
Византийская М., как и другие разделы византийской культуры, сыграла выдающуюся роль в передаче античного наследия в страны Востока и Европы, особенно большое влияние она оказала на развитие М. славянских народов, Армении и Грузии.
Медицина в арабских халифатах. Страны арабских халифатов были образованы в результате арабских завоеваний 7—8 вв. н.э., приведших к созданию единого арабского государства, просуществовавшего одно столетие и распавшегося на множество небольших государств, в которых сохранились единая религия и один язык. В халифаты входили многие части Византийской империи либо страны и территории, тесно связанные с нею экономически (Сирия, Персия, Египет, Малая Азия, Северная Африка, Пиринейский полуостров и т.д.).
Острый кризис, вызванный разложением родоплеменных отношений и соответствующих им форм морально-этических и религиозных представлений, а также интенсификация процессов образования классов и формирования единой арабской народности обусловили необходимость создания единой идеологии. На этом общественно-политическом фоне возникла новая религия — ислам. Усвоив многие черты догматики, этики, обрядности и мифологии христианства, иудаизма, зороастризма и других ближне- и средневосточных религиозно-философских и политических течений, ислам с самого начала своего существования трансформировал их применительно к идее единства морали и права, религиозных и общественно-политических норм. Такое соединение религиозной и светской сфер при господстве религиозного фактора сделало ислам всеобъемлющей, тотальной системой, претендующей на гегемонию во всех областях духовной и политической жизни общества и каждого человека в отдельности. Именно на этой основе произошло объединение арабских племен в единое централизованное государство, простиравшееся от Индии до Атлантического океана и от Средней Азии до Центральной Африки.
Возникшая в результате арабских завоеваний государственно-политическая общность создала условия для появления общих форм культурной жизни народов арабских халифатов. Эту культуру, развившуюся вследствие экономического и культурного взаимодействия арабов и покоренных ими народов, условно принято называть арабской культурой. Обогащению арабской культуры способствовали широкие возможности для общения и взаимообмена культурными достижениями между мусульманскими народами, а также оживленные связи со многими странами Востока и Европы. Вклад различных народов в формирование и развитие арабской культуры неодинаков, Наибольшую роль в ее формировании сыграла культура народов, которые, приняв ислам, сохранили национальную самобытность, а в дальнейшем возродили государственную самостоятельность (народы Средней Азии, Ирана, Закавказья). Существенный вклад в арабскую культуру внесли также народы, не принявшие ислама (сирийцы-христиане, иудеи, иранцы-зороастрийцы). В частности, с деятельностью несториан Гундишапура, а также сирийцев-несториан и сабиев Харана связано распространение философского и медицинского наследия эпохи античности и эллинизма.
В 9—10 вв. арабская культура достигла наивысшего расцвета. Ее создатели применили новые способы научного, религиозно-философского и художественного познания окружающего мира и человека; ее достижения обогатили культуру многих народов, в т.ч. народов средневековой Европы. Распад арабских халифатов (середина 10 в.) и образование на его территории самостоятельных государств привели к сужению сферы влияния арабской культуры, но вместе с тем обусловили подъем национальной культуры народов, восстановивших государственную самостоятельность.
Начальное и среднее образование в арабских халифатах по структуре и содержанию приближалось к византийскому, однако находилось полностью под контролем религии. Начальное образование включало обучение чтению и письму, а также заучивание текстов Корана. Среднее образование давалось в школах при мечетях (медресе), объем обучения соответствовал византийскому «энциклиос педиа» (математика, риторика, диалектика и элементы М.). Центрами высшего образования и научной деятельности были так называемые дома знаний, которые с начала 9 в. были открыты во многих торгово-промышленных городах. Крупнейшие высшие школы были организованы в Багдаде, Басре, Каире, Дамаске, Халебе, Толедо, Кордове, Самарканде, Мараге (Азербайджан). Только в мусульманской Испании в 12 в. имелось 17 высших школ. В домах знания преподавались различные общеобразовательные и естественнонаучные дисциплины. Научными центрами являлись и так называемые общества просвещенных, объединявшие признанных ученых, периодически собиравшихся для обсуждения своих научных трудов, — прообраз научных обществ и академий наук, возникших в Европе в 17—18 вв. Такие общества организовывались при дворах мусульманских правителей. На них обсуждались политические, хозяйственные и военные проблемы. Много внимания уделялось и медико-гигиенической проблематике: рассматривались проекты санитарного благоустройства, меры борьбы с возникавшими эпидемиями, проблемы теоретической М., вопросы диагностики, лечения больных. При домах знания и обществах просвещенных создавались библиотеки, наиболее крупными из которых были Багдадская, Бухарская, Каирская, Дамасская и др. Только один каталог библиотеки в Кордове составлял 44 тома.
В медицинских школах при больницах, аналогичных византийским, широко использовалось клинической преподавание, теоретическая М. преподавалась в соответствии с анатомо-физиологическими представлениями Галена. Вместе с тем объем преподавания не был так строго регламентирован, как в Византии, и преподаватели имели возможность в процессе обучения излагать собственные клинические наблюдения и точки зрения. Шире преподавалась и философия. По окончании школы учащиеся сдавали выпускные экзамены, которые принимала коллегия врачей. При крупных больницах с медицинскими школами создавались медицинские библиотеки. Такие своеобразные клинические и научно-учебные центры некоторые историки называют медицинскими академиями. Громкая слава медицинских академий привлекала в них не только учеников, но и врачей, стремившихся усовершенствовать свои знания у наиболее знаменитых ученых своего времени. Свидетельство об окончании медицинской академии открывало широкую дорогу не только для врачебной практики, но и для получения придворных врачебных должностей, а также для преподавательской работы, к которой в странах Арабского Востока допускались лишь после строгого отбора. Наибольшей славой пользовались медицинские академии в Багдаде (основана в 8 в.), в Кордове, Куфе и Басре (основаны в 10 в.), Дамаске и Каире (основаны в 13 в.), а также Гундишапурская медицинская академия. Допускалась и частная форма обучения. Многие крупные врачи имели учеников. Как правило, ученики долгое время сопровождали своего учителя, выполняя роль своеобразных подмастерьев. После смерти учителя ученики наследовали его практику.
Для арабской культуры, как и для культуры феодализма в целом, характерны отсутствие четкой дифференциации отраслей творческой деятельности и энциклопедический характер образованности деятелей науки и культуры. Естествознание и медицина как области научного творчества развивались в рамках этой нерасчлененной системы знаний. Средневековая арабская философия, оказавшая огромное влияние на развитие естествознания и М., сформировалась в борьбе восточных перипатетиков, представления которых основывались на эллинистическом наследии, и сторонников религиозно-идеалистических учений. Ранние представители национального богословия — мутазилиты — разработали концепцию, не только выходившую за рамки религиозной проблематики, но и подрывавшую некоторые основные догматы ислама. Они отвергали представление об извечности Корана, развивали концепцию разума как единственного мерила истины и положение о неспособности творца изменять естественный порядок вещей. В среде мутазилитов была распространена идея атомарного строения мира.
В основе учения восточных перипатетиков лежала философия Аристотеля в интерпретации сирийских и гундишапурских несториан, а также афинской и александрийской школ. Их толкования Аристотеля открывали возможность для атеистических и даже материалистических концепций. Основоположником восточного перипатетизма был Кинди (аль-Кинди, около 800—870), который первым в арабской философии изложил содержание основных трудов Аристотеля, представил рациональное познание как приобщение разума индивида к универсальному божественному разуму. Кинди был также видным математиком, астрономом и врачом. Им написано свыше 20 трудов по медицине, один из которых («О приготовлении и дозировке лекарств») был переведен на латинский язык. Кинди интересовался причинами возникновения психических болезней, указывая на роль некоторых условий жизни в их происхождении и отрицая значение в их этиологии сверхъестественных сил. Эти рациональные начала медицинских взглядов Кинди были впоследствии использованы и развиты Ибн Синой (около 980—1037).
Представления Кинди о боге как о безликой «отдаленной причине» получили развитие в рамках неоплатонической теории аль-Фараби (870—950), автора капитального трактата «Теоретическая и практическая медицина». Ею воззрения в отношении сущности здоровья и болезни чисто неоплатонические; он повторяет «учение о душах» и их локализации, рассуждает об их влиянии на состояние и соотношение соков организма. Вместе с тем аль-Фараби подчеркивал возможность влияния внешних факторов на состояние каждой души, утверждая т.о. положение о взаимосвязи организма с окружающей его средой и роль факторов внешней среды в патологии. Практическая М. изложена у аль-Фараби в самой общей форме. Идеи аль-Фараби углубил и детализировал крупнейший мыслитель средневековья Ибн Сина, утверждающий вечность материи и независимость частных явлений жизни, в т.ч. состояния здоровья и болезни, от божественного провидения. В свою очередь, философские, естественнонаучные и медицинские труды Ибн Сины оказали огромное влияние на развитие науки и М. в мусульманских странах и Западной Европе. Наиболее выдающийся из его трудов «Канон врачебной науки» в течение почти шести веков служил основным учебным пособием по М. в школах Востока и университетах Западной Европы.
В 12 в. центр философской мысли переместился на запад мусульманского мира. В арабской Испании Ибн Баджа утверждал, что человек посредством чисто интеллектуального совершенствования без мистического озарения способен достичь полного счастья и слиться с деятельным разумом. Ибн Рушд (1126—1198), более известный в Европе как Аверроэс, выступал с тезисом об имманентности форм самой материи, отрицал бессмертие индивидуальных душ, считал вечным лишь человеческий интеллект, приобщавшийся к деятельному божественному разуму, который воплощал предельную цель человеческого знания. Медицинские труды Ибн Рушда мало оригинальны. В энциклопедическом труде «Книга общих принципов медицины» («Китаб аль-Коллият», переведена на латинский язык под названием «Коллигет») он излагает главным образом взгляды Ибн Сины, а также ведущих врачей багдадской и кордовской школ.
Важными, в т.ч. и для развития М., явились работы ученых Арабского Востока по алхимии и оптике. Джабир ибн Хайян (около 721—815) первый собрал и обобщил разрозненные сведения по алхимии, объединив при этом данные греко-египетских и индийских алхимиков. Арабские ученые получили азотную и соляную кислоты, хлорную известь и спирт (арабы назвали его алкоголем); они изобрели водяную баню, перегонный куб и первыми стали применять фильтрование. Арабским и среднеазиатским ученым принадлежит идея использования достижений алхимии в медицинских целях, что, в частности, выразилось в использовании лекарственных средств, полученных химическим путем. По свидетельству иранского врача Абу Мансура (10 в.), арабы при составлении лекарств пользовались различными органическими веществами: тростниковым сахаром, кислотами растительного происхождения и др. Арабские врачи ввели в употребление соединения ртути, азотнокислое серебро, серу. Аптечный инвентарь был заимствован из лаборатории алхимика, и не случайно, что первая аптека появилась в Багдаде (754). Идея связи алхимии с М. пришла в Европу от арабов, и поиски философского камня были связаны прежде всего со стремлением отыскать универсальное средство для лечения болезней и продления жизни.
Труды Ибн аль-Хайсама (965—1039) стали одним из свидетельств влияния М. на открытия в области техники. На основе имеющихся данных о строении глаза Ибн аль-Хайсам изготовил модель хрусталика сначала из хрусталя, а затем из стекла, впервые получив т.о. двояковыпуклые линзы, увеличивавшие изображение рассматриваемого предмета. Он же первым предложил использовать линзы при чтении людям преклонного возраста, объяснил преломление лучей в средах глаза, зрительные восприятия; названия, данные им отдельным частям глаза (хрусталик, роговица, стекловидное тело и др.), сохранились до настоящего времени,
Медицина народов Арабского Востока, включая труды врачей Ирана и Средней Азии, несомненно, составляет высшее достижение М. эпохи феодализма. Огромной исторической заслугой арабских и среднеазиатских врачей являются сохранение и передача врачам Западной Европы богатейшего наследия М. Древнего Востока, античного и эллинистического мира. Арабские и среднеазиатские врачи значительно обогатили практическую М. новыми клиническими наблюдениями, приемами диагностики, лекарственными средствами. Вместе с тем в целом, если не считать идеи связи М. с химией, арабское и среднеазиатские врачи не внесли в М. каких-либо принципиально новых идей, которые по их последствиям можно было бы сравнивать, например, с анатомией А. Везалия или физиологией У. Гарвея. Следуя традициям, арабские ученые не сомневались и в правильности анатомо-физиологических представлений Галена. Некоторые дополнительные (в сравнении с трудами Галена и византийцев) сведения по анатомии встречаются в отдельных арабских трудах, но они почерпнуты, по-видимому, из индийских источников. Анатомией человека арабские врачи не занимались: ислам строго запрещал даже прикосновение к мертвому человеческому телу. Ничем не дополнили арабские врачи и общепатологические представления своих предшественников: неблагоприятное смешение соков, пневматическая теория и неоплатоническое учение о душах организма остались незыблемыми. Правда, многие арабские ученые подчеркивали связь заболеваний с воздействием внешних факторов, но это положение было хорошо известно и древним. Вместе с тем нельзя не отметить рациональных взглядов отдельных мусульманских врачей на сущность психических процессов, высказанных в самой общей форме Кинди и существенно развитых Ибн Синой. Великий среднеазиатский философ, естествоиспытатель и врач стал одним из провозвестников рациональной психологии и одним из первых медиков, заявлявших о взаимовлиянии психического и телесного в патологии и подтверждавших эти заявления клиническими наблюдениями и опытным путем.
Широкое развитие получило в халифате больничное дело. По свидетельству Бенджамена Толедского, в 12 в. в Багдаде было 60 больниц, в Кордове — около 50, Есть многочисленные указания на долголетнюю и весьма успешную деятельность больниц в Мерве, Рее, Исфагани, Ширазе, Дамаске, Каире и других городах Ближнего и Среднего Востока. Сохранилось описание Мансурийской больницы в Каире (основана в 1284 г.) и созданной при ней медицинской академии, которое позволяет судить о высоком уровне благоустройства и вполне удовлетворительном уходе в арабских больницах. При Мансурийской больнице имелось амбулаторное отделение, врачи которого не только вели прием больных, но и посещали их дома. Больницы финансировались главным образом за счет частных пожертвований. В городах Ближнего и Среднего Востока были специальные чиновники, надзиравшие за хозяйственной деятельностью больниц и медицинских школ.
В 9—10 вв. основные центры естественнонаучных и медицинских знаний располагались в восточной части арабских халифатов. Наиболее известные врачи этого периода практиковали в Багдаде, на территории Ирана и Средней Азии. Врачи арабского Востока в 9 в. много занимались переводами античных и византийских авторов, составляли на основе этих переводов обширные компиляции. Первый обобщенный энциклопедический труд по М., включавший не только обзор мнений своих предшественников, но и собственные клинические наблюдения, был составлен Абу Бакром Рази (865—925), основавшим Багдадскую больницу и медицинскую школу. Рази написал более 200 трудов в различных областях знаний, из которых более половины посвящены М. Его основные труды — 25-томная «Всеобъемлющая книга по медицине» и 10-томная «Медицинская книга» — пользовались большой известностью и были переведены на латинский язык. Анатомо-физиологические и общепатологические вопросы Рази излагал в полном соответствии с представлениями Галена; его клинические аспекты — ближе к воззрениям Гиппократа. В терапии Рази — сторонник применения наиболее простых, щадящих организм средств: «Если ты можешь вылечить больного и диетой и лекарствами, — пишет он, — выбирай диету». Рази, как и другие врачи Арабского Востока, рекомендовал физические упражнения, ванны, массаж. Труды Рази свидетельствуют о его наблюдательности, знании и умении пользоваться широким для своего времени арсеналом лекарственных средств растительного, животного и минерального происхождения, в т.ч. лекарствами, получаемыми химическим путем. Он более точно, чем его предшественники, описал симптоматику многих заболеваний. Широкую известность принесла Рази его «Книга об оспе и кори», в которой, несмотря на ошибочные представления о том, что оспа и корь лишь разные формы одного и того же заболевания, он подробно изложил их симптоматику и дифференциальную диагностику, описал лечение и меры предупреждения. Рази рекомендовал применять вариоляцию, известную еще врачам древности (в Китае, Индии, Иране). Рекомендуя детально разработанные меры по уходу за больным ребенком, Рази указывал на важность ухода за ртом и зевом, полоскания подкисленной водой, осторожного промывания глаз и др. Он предложил инструмент для извлечения из глотки инородных тел, использовал при перевязках вату. Наряду с крупными энциклопедическими трудами, служившими руководством врачам, он писал популярные сочинения, например о медицине для бедных («Для тех, у кого нет врача»).
Крупнейшим врачом Арабского Востока был ученик Рази — Ибн Аббас, труд которого «Царственная книга» был первым из арабских медицинских энциклопедических трудов переведен на латинский язык (1127) и до перевода «Канона врачебной науки» Ибн Сины служил основным источником обучения медицине. Ибн Аббас сжато и весьма точно описал симптоматику многих болезней. Так же, как и Рази, Ибн Аббас обращал большое внимание на вопросы врачебной этики, писал о долге врача оказывать помощь, быть терпеливым и ласковым с больным. Вообще арабские и среднеазиатские врачи относились к своему профессиональному долгу очень серьезно. Видные врачи Арабского Востока, следуя заветам врачебной клятвы древнеиранских и древнегреческих врачей, писали и о необходимости строгого соблюдения врачебной тайны.
Абу-ль-Касим (936—1013) прославился главным образом как хирург. В его основном труде «Аль-Тасриф» содержатся описания лечения переломов, литотомии, грыжесечения, глазных операций, методов обезболивания при операциях. Следуя традиции своего времени, Абу-ль-Касим широко рекомендовал прижигания, особенно для лечения местных поражений, подчеркивая, что операция требует из-за кровотечения гораздо большей осторожности, чем прижигание. Абу-ль-Касим не оперировал женщин, т.к. ислам запрещал правоверному мусульманину видеть обнаженное женское тело. Вместе с тем он единственный из арабских врачей, кто подробно описал клинику внематочной беременности. Труд Абу-ль-Касима имел огромную популярность и на Востоке, и в Европе; он 5 раз переводился на латинский язык.
Большой известностью пользовался Ибн Зохр (1092—1162), произведения которого были ярким образцом критического отношения к старым авторитетам, требования самостоятельных наблюдений. Единственным критерием оценки он считал опыт. Ибн Зохр подробно описал способы приготовления лекарств, первым из врачей ввел в свои книги рецепты противозачаточных средств, принципы подбора и показания к назначению диеты, впервые охарактеризовал клиническую картину серозного перикардита и медиастинального абсцесса. Ученик Ибн Рушда — Маймун (Моисей Маймонид, 1135—1204) прославился главным образом как преподаватель. Основной его труд «Книга советов» — серия гигиенических рекомендаций о рациональном образе жизни, режиме питания, личной гигиене. Его собственные труды не содержат оригинальных сведений по сравнению с трудами других арабоязычных авторов. Для описания клиники и лечения он пользовался главным образом текстами «Канона» Ибн Сины, работами Ибн Зохра и Ибн Рушда.
Успешно решались врачами арабского Востока проблемы личной и общественной гигиены. Кроме воспринятых от древневосточных и древнегреческих врачей и возведенных в форму обрядов правил личной гигиены врачи Арабского Востока более детально разработали вопросы рационального питания, диетического режима для людей различных возрастов и др. В энциклопедических трудах арабских и среднеазиатских врачей много внимания уделяется гигиене беременных, гигиеническому уходу за грудными детьми и вопросам вскармливания, рекомендациям по рациональному образу жизни лиц пожилого возраста, гигиеническому режиму и питанию во время длительных путешествий. В городах Арабского Востока были установлены строгие правила водопользования, хранения и продажи пищевых продуктов. Много времени уделялось изучению причин заразных болезней. Последователь Ибн Рушда Ибн аль-Хатиб (1313—1374) разрабатывал вопрос о передаче заразных болезней, в частности через окружающие предметы, предлагал обеззараживание с помощью окуривания и изоляцию больных.
Арабские врачи считали основной задачей М. лечение и предупреждение болезней. В трудах всех без исключения врачей Арабского Востока приводится богатый арсенал средств, среди которых имеются лекарства, не встречающиеся в трудах их предшественников. Арабские и среднеазиатские врачи подвергали лекарственные средства как биологическому (сведения о проверке действия лекарств на животных содержатся в трудах Ибн Аббаса, Ибн Сины и др.), так и клиническому испытанию в больницах. Заслуживает внимания интересный труд дамасского врача Осейбии (1204—1269) по истории медицины.
Медицина в средневековой Западной Европе. Эпоху становления и развития феодализма в Западной Европе (5—13 вв.) обычно характеризовали как период упадка культуры, время господства мракобесия, невежества и суеверий. Деятели Возрождения (15—16 вв.) и Нового времени (17—18 вв.), борясь с феодализмом и сковывавшими развитие философской и естественнонаучной мысли религиозно-догматическим мировоззрением, схоластикой, противопоставляли уровень культуры своих непосредственных предшественников, с одной стороны, античности, с другой — создаваемой или новой культуре, оценивая период, разделяющий античность и Возрождение, как шаг назад в развитии человечества. Такое противопоставление, однако, нельзя считать исторически оправданным. В силу объективно сложившихся исторических обстоятельств племена, завоевавшие всю территорию Западной Римской империи, не стали и не могли стать непосредственными восприемниками позднеантичной культуры. Обладая самобытной культурой эпохи родоплеменных отношений, кельтские и германские народы предстали перед христианизированной позднеантичной культурой особым огромным миром, потребовавшим серьезного и длительного осмысления. Оставались ли эти народы верными язычеству или уже успели принять крещение, они по-прежнему были носителями вековых преданий и поверий. Раннее христианство не могло просто вырвать с корнем весь этот мир и заменить его христианской культурой, оно должно было его освоить. Т.о., если на Востоке культурный подъем 1 тысячелетия н.э. происходил на прочном фундаменте устоявшихся древних культурных традиций, то у народов Западной Европы к этому времени лишь начался процесс культурного развития и формирования классовых отношений. При этом, если на Востоке устоявшиеся культурные традиции позволили длительное время сопротивляться сковывающему влиянию догматики организованных религий, то на Западе церковь была единственным общественным институтом, сохранившим остатки позднеантичной культуры. С самого начала обращения варварских племен в христианство она взяла под контроль их культурное развитие и духовную жизнь, идеологию, просвещение и медицину.
В Западной Европе сложилась феодальная культура в наиболее типичной ее форме; мировосприятие и идеалы, ценностные ориентации и критерии, нравственные и этические представления средневекового европейца сводились к религиозной догматике. Никакое мирское знание не шло в сравнение с познанием возможностей «спасения», изложенных прежде всего в Священном писании, а также в некоторых канонизированных произведениях древности, например Птолемея (в области географии и астрономии), Галена (в области медицины). Новые открытия отрицались, а люди, высказывавшие новые идеи, ставились под подозрение как еретики. Основой всякого знания являлось учение Аристотеля, односторонне воспринятое и поставленное на службу богословию. Всякое позитивное знание имело право на существование лишь как средство для иллюстрации теологических истин. На этом фоне процветали различные мистические представления, заменяющие и вытесняющие рациональное знание.
И все же средневековье не было шагом назад в культурном развитии народов Западной Европы. Несомненный экономический и технический прогресс, достигнутый средневековой Европой, обеспечил развитие ремесла, торговли и рост городов. Не позднее 8 в. народы Европы создали национальную письменность, приспособив латинский алфавит к своим диалектам. Деятели средневековой культуры оставили крупные памятники литературы, архитектуры, философской, юридической и экономической мысли. Потребности городской жизни диктовали новые методы познания действительности: опытные вместо умозрительных, критические и рациональные вместо слепой веры в авторитеты. Возникали университеты, светские школы, развивались рационалистические философские учения, подрывавшие официальную церковную догму. В представлениях средневековых ученых прочно укоренилась мысль о целесообразности опытного познания окружающего мира. Они передали эту мысль своим ученикам, которые, на основе возрождения традиций античности стали применять метод своих учителей исключительно для целей познания и, отрицая средневековье как век догматики, уничижения личности и умозрительного теоретизирования, усвоили все то позитивное, что создала средневековая культура.
Однако в области медицины и медико-санитарного дела средневековье в целом не внесло ничего нового. Анатомо-физиологические представления Галена, искаженные в духе догматов христианства, считались высшим достижением человеческого разума. При этом вера в непогрешимость древних была столь высока, что даже наглядно наблюдаемые факты, если они противоречили текстам древних, считались «наваждением» и не принимались во внимание. В течение десяти веков анатомия практически не изучалась. Анатомирование человеческих трупов было запрещено. Лишь в 1238 г. Фридрих II разрешил профессорам Салернской медицинской школы вскрывать для демонстрации один труп в 5 лет. В 1241 г. было разрешено вскрытие трупов в судебно-медицинских целях. В 1316 г. профессор Болонского университета Мондино де Луцци (1275—1326) издал учебник по анатомии, пытаясь заменить им анатомический раздел «Канона врачебной науки» Ибн Сины. Сам Мондино имел возможность вскрыть только два трупа, и его учебник состоял в основном из текстов, почерпнутых из плохого перевода Галена. Тем не менее книга Мондино более двух веков была университетским пособием по анатомии, по ней учился А. Везалий. Только в 14—15 вв. отдельные унты начали получать разрешение на анатомические демонстрации; обычно вскрывали не более одного трупа в год.
Широко распространились мистические представления. Звездочеты и колдуны, гадалки и кликуши успешно конкурировали с врачами. Более того, многие врачи пользовались их средствами и приемами. Талисманы и гороскопы, магические заклинания и мистические поверья использовали в лечении любых болезней. Летучая мышь, убитая в полночь и высушенная, считалась лучшим противозачаточным средством. Безоговорочно признавалось, что корень мандрагоры кричит по ночам человеческим голосом и помогает от падучей, что судьба человека, его здоровье и возможность излечения в случае болезни зависят от расположения светил на небесном своде. Астрология и каббалистика — наследие Древнего Вавилона и Халдеи — обрели в средневековой Европе как бы вторую родину. Во многих европейских университетах были созданы кафедры астрологии. Средневековые правители содержали придворных астрологов (эта должность считалась высокой и почетной в придворных кругах). Врач, не следующий духу и букве астрологии, был так же редок, как и священник, сомневающийся в истинности символов веры.
По поводу астрологических установок позволялось даже спорить с древними. Так, Арнальдо де Вилланова оспаривал положение Галена о том, что на здоровье человека в основном влияют планеты; он считал, что в возникновении и течении болезней определяющее значение имеют созвездия, а Луна «повинна» лишь в возникновении эпилепсии. Не только в астрологических календарях, но и в медицинских трудах описывались связь функции и поражения органов и частей тела с движением определенных планет и расположением созвездий. Соки организма также подчинялись небесным телам. На основании расположения созвездий определялось наиболее благоприятное время для кровопусканий, приготовления лекарств и их приема.
Определяющую роль в медицине и медико-санитарном деле играла церковь. В 6 в. при западноевропейских монастырях начинают создаваться первые больницы-богадельни: в 6 в. — в Лионе, в 529 г. — в Монте-Кассино, в 651 г. — в Париже, в 794 г. — в Лондоне, около 1000 г. — в Сен-Бернаре. Идея создания стационарных учреждений при монастырях для лечения больных и призрения стариков и инвалидов была заимствована, по-видимому, из Византии. Однако первые монастырские больницы Западной Европы по уровню лечения и ухода за больными существенно уступали больницам Византии и Арабского Востока. Если не считать Салерно, где ко времени открытия госпиталя имелась корпорация врачей, лечебная помощь в этих больницах оказывали монахи, медицинская подготовка которых была крайне недостаточной. По мнению многих историков медицины, монахи лечили главным образом «постом и молитвой», хотя не исключено, что в монастырских больницах использовали и рациональные средства, почерпнутые из народной медицины и работ античных авторов. При монастырях стали складываться медицинские школы, подготовка в которых первоначально ограничивалась обучением методам оказания первой помощи при ранениях и ухода за ранеными и больными.
В 9—10 вв. общий уровень просвещения в Западной Европе повысился. Были учреждены крупные соборные школы в Шартре, Реймсе, Йорке и других городах для подготовки высшего духовенства, появились светские школы — дворцовая школа Карла Великого, высшая школа в Type (796) и др. На базе соборных и крупных светских школ возникли университеты в Болонье (1158), Оксфорде (12 в.), Кембридже (1209), Париже (1215), Саламанке (1218), Падуе (1222), Неаполе (1224), Монпелье (1289), Праге (1348), Кракове (1364) и других городах. С самого их основания и вплоть до 15—16 вв. унты были главным образом учебными заведениями для духовенства. Это было вполне естественным явлением, поскольку духовенство монополизировало все сферы деятельности, требовавшие образования. Первоначально университеты представляли собой корпорации ученых и учащихся, аналогичные цехам. Порядок жизни в университетах был подобен строю церковных учреждений: учебные уставы и программы контролировались властями, ведущую роль играли богословские факультеты. Поступая в университет, студенты приносили присягу, подобную присяге священника, в частности давали обет безбрачия. Задача ученых в средневековых университетах сводилась к подтверждению правильности официально признанных учений и к составлению комментариев к ним. Задача же ученых-медиков заключалась, в первую очередь, в изучении и комментировании Галена: его учения о целенаправленности всех процессов в организме, о «пневме» и потусторонних «силах». Методы преподавания и характер науки были чисто схоластическими. Студенты заучивали наизусть то, что говорили профессора, читавшие (в буквальном смысле этого слова) тексты Галена, Гиппократа, Ибн Сины и некоторых других авторов и дававшие комментарии к ним (составление комментариев к произведениям авторитетных авторов считалось тогда основной формой научного творчества). Слава и блеск средневекового профессора заключались прежде всего в его начитанности, в умении подтвердить каждое высказанное положение цитатой из авторского источника. Практическому обучению на медицинских факультетах большинства университетов не уделялось серьезного внимания. Анатомия изучалась по учебникам, которые почти не были иллюстрированы. Отвлеченно преподавались и клинические дисциплины. Лишь в двух университетах — в Салерно и Монпелье, основанных на базе медицинских школ, преподавание практической М. велось на достаточно высоком уровне. Эти школы сыграли важную роль в развитии М. в Западной Европе.
Уже в 9 в. в Салерно существовала корпорация врачей, занимавшаяся не только лечением больных, но и обучением врачебному искусству, возникшая медицинская школа сложилась как школа практического направления. Лучшее из того, что было создано античной М., бережно хранилось и развивалось именно там, в «civitas Hippocratica» («гиппократовой общине»), как по праву стали называть Салерно. В отличие от других медицинских школ раннего средневековья Салернская школа носила светский характер.
Как и Салернский госпиталь (основан в 820 г.). являвшийся по существу первой гражданской больницей в Западной Европе, медицинская школа в Салерно не была основана духовенством и финансировалась за счет средств города и платы за обучение. Деканы — приоры школы не имели духовных званий. Более того, в 11—15 вв. в Салерно учились и даже преподавали женщины. В истории Салернской школы различают два периода: так называемый греческий период, длившийся от начала существования школы до 12 в., и греко-арабский период (с 13 в.). Уже в эпоху раннего Салерно (9—11 вв.) там были созданы труды практического характера, такие как «Антидотарий» — книга наиболее употребительных лекарственных средств, применявшихся салернскими врачами. В «Антидотарий» впервые количества лекарственных средств давались в точной весовой прописи: в гранах, унциях, скропулах и драхмах. Существовал и «Пассионарий» — практическое руководство по диагностике различных заболеваний. На развитие Салернской школы большое влияние оказала переводческая деятельность Константина Африканского (около 1020—1087).
Начиная с 11 в. наиболее выдающимися врачами школы были Иоанн Платеарий — автор краткого практического руководства по медицине, широко известного еще в 16 в., Кофо — автор сочинений о лихорадках и местной патологии; Феррарий, написавший сочинение о лихорадке. Собственная медицинская литература Салерно была столь обширной, что к середине 12 в. на ее базе был создан всеобъемлющий трактат «О лечении заболеваний», в котором речь шла о лечении всех известных в то время болезней. Оригинальным и новым по своему характеру было сочинение Архиматтея «О приходе врача к больному», в котором помимо диагностических и лечебных советов обсуждались вопросы врачебной этики, взаимоотношений врача с больным и т.д. Большой известностью в Европе пользовался Роджер Салернский — автор первого в Западной Европе систематического труда по хирургии «Хирургия Роджера» (1170), составленного, по-видимому, на основе позднеантичных. византийских и арабских источников. «Хирургия Роджера» была основным учебником и справочным пособием по хирургии и течение 100 лет. В середине 12 в. в Салерно работали два выдающихся врача-ученых — Мавр и Урсо. Первому принадлежат трактат о моче и сочинение о кровопускании, к которому средневековая М. прибегала очень часто, второй — автор сочинения о моче и «Афоризмов». Труды этих ученых высоко ценились современниками и были известны в последующие века.
К началу 13 в. слава Салернской школы была столь велика, что в 1224 г. император Фридрих II предоставил ей исключительное право присваивать звание врача и выдавать лицензии на право врачебной практики на территории его империи. Была утверждена постоянная учебная программы: обучению в школе предшествовал трехлетний подготовительный курс, затем 5 лет изучалась М., после чего следовала годичная стажировка у опытного врача. Обучение в Салерно носило преимущественно практический характер, студенты старших курсив сопровождали своих преподавателей во время обходов в госпитале, участвовали в осмотрах больных: стажеры выполняли функции помощников врача: мною внимания уделялось гигиене и диететике.
Традиции Салернской школы частично продолжала медицинская школа в Монпелье, основанная при доминиканском монастыре в 768 г. В конце 11 — начале 12 в. для преподавания в Монпелье начали привлекать выпускников Салернской школы. В 1137 г. школа отделилась от монастыря. В 1145 г. в Монпелье был открыт городской госпиталь, на базе которого проводилось практическое обучение студентов школы. В 1220 г. был определен статут школы: оставаясь (формально подчиненной епископу, школа получила право иметь собственную выборную администрацию во главе с канцлером — светским лицом, избрание которого утверждалось епископом. Одним из первых канцлеров школы в Монпелье был Роджер Салернский. Согласно статуту, в школе вводились ученые степени: бакалавра — для сдавших полукурсовые экзамены, лиценциата — для прошедших полный курс обучения (звание давало право на врачебную практику) и магистра — для лиц, приглашаемых в корпорацию преподавателей школы. Преподавание велось по той же системе, что и в Салерно. В 1289 г. школа вошла в состав открытого в Монпелье университета. На рубеже 13—14 вв. в Монпелье около 10 лет преподавал Арнальдо де Вилланова — один из прославленных врачей средневековья. Круг его интересов был исключительно широк: он занимался токсикологией, изысканием средств продления жизни и борьбы со старостью, разрабатывал вопросы диететики и гигиены, написал книгу о лечении свойствах вина, составил сжатый очерк практической терапии («Бревиарий»). В начале 14 в. он, изучая труды Салернской школы, изложил в стихах медицинское кредо этой школы в области диететики, здорового образа жизни и методов предупреждения заболеваний — «Салернский медицинский кодекс». Этот труд, изданный впервые в 1480 г., затем много раз выходил на многих европейских языках.
В целом уровень практической М. в средневековой Европе был значительно ниже, чем в Византии и странах Арабского Востока. Для фармации эпохи средневековья характерны сложные лекарственные прописи. Число ингредиентов, нередко несовместимых по действию. в одном рецепте доходило до нескольких десятков. Фармация в средние века была тесно связана с алхимией, которая, преследуя фантастические задачи (поиски «философского камня», способного превращать неблагородные металлы в золото, попытки отыскать «жизненный эликсир» и панацею — всеисцеляющее средство от всех болезней), одновременно накапливала опыт исследования веществ.
Несмотря на большие трудности для научной деятельности, обусловленные господством схоластики в таких областях, как хирургия и инфекционные болезни, был собран значительный фактический материал. Развитию хирургических знаний, прежде всего практических навыков, способствовали многочисленные войны и крестовые походы. Хирурги в средние века были обособлены от ученых докторов, окончивших университеты, и находились в большинстве своем на положении рядовых исполнителей. Они делились на разные группы: камнесечцы, костоправы, цирюльники (они же кровопускатели) и др. Были также крупные ученые — представители академической медицины, профессора университетов, выделявшиеся своей деятельностью в хирургии. К таким ученым следует отнести Саличето, преподававшего хирургию в Болонском университете, де Мондевиля (1260—1320), преподававшего в Монпелье, Ланфранки (13—14 вв.) — создателя хирургической школы в Париже, Мондино де Луцци, преподававшего в Болонье, и др. Одним из крупнейших ученых-хирургов средневековья был Ги де Шолиак (14 в.) — ученик школ Монпелье и Болоньи, преподававший в Париже, составивший руководство по хирургии (1363).
В результате многочисленных войн средневековья практическая хирургия значительно обогатилась. Во Франции объединения («братства») хирургов получили право на индивидуальное ремесленное ученичество, возможность открывать школы, колледжи хирургов; школы эти завоевывали все лучшую репутацию. Иллюстрацией того, как опыт практиков-цирюльников, столь низко стоявших в средневековой медицинской иерархии, послужил основой для развития хирургической науки, может служить деятельность одного из основоположников научной хирургии — цирюльника А. Паре (около 1510—1590).
В средние века в Европе, как и в странах Востока, свирепствовали эпидемии. Последствиями опустошительных войн и массовых передвижений огромного количества людей были разруха во всех областях хозяйственной жизни, голод и крупные эпидемии — в масштабах, каких не знал древний мир. Например, в 1032—1035 гг. «великий голод» обезлюдил Грецию, Италию, Францию и Англию. Современник бедствия Рауль Глабел писал: «И весь род человеческий изнывал из-за отсутствия пищи: люди богатые и достаточные чахли от голода не хуже бедняков, ибо при всеобщей нужде сильным не приходилось больше грабить».
В 1087 г. в Германии и Франции разразилась страшная чума; в 1089 г. Францию, Германию, Англию и Скандинавию впервые посетила какая-то новая эпидемическая болезнь («священный огонь»); в 1092 г. наблюдались неслыханный падеж скота и «большая смертность людей». В 1094 г. чума охватила Германию, Францию и Нидерланды, Во время крестового похода в 1147 г. голод и болезни уничтожили большую часть германского ополчения. По словам безымянного автора хроники «Константинопольское опустошение», живых не хватало, чтобы хоронить мертвых. Наиболее тяжелой была эпидемия «черной смерти» в середине 14 в. (чума и вместе с ней другие болезни). На основании городских хроник, церковных записей о погребениях, летописей, воспоминаний современников и других источников историки считают, что в крупных городах Европы (Вене, Будапеште, Праге, Париже, Марселе, Флоренции, Лондоне, Амстердаме и др.) вымерло тогда от половины до 9/10 населения; в ряде стран Европы число умерших достигало 1/5—1/4 населения, В художественной литературе того периода нашли отражение опустошительные средневековые эпидемии. Автор поэмы «О черной смерти» Симон Ковино (Франция) писал, что число похороненных людей превышало число оставшихся в живых, города обезлюдели, в них не видно жителей. Джованни Боккаччо (1313—1375) писал в «Декамероне»: «... смертоносная чума открылась в областях востока и, лишив их бесчисленного количества жителей, дошла, разрастаясь плачевно, и до запада. Не помогали против нее ни мудрость, ни предусмотрительность. Воздух казался зараженным и зловонным от запаха трупов...».
Власти были вынуждены принимать меры по борьбе с распространением эпидемий. Как известно, первый лепрозорий был создан в древней Армении еще в 260—270 гг. н.э. Через 300 лет в 570 г. был открыт первый лепрозорий в Западной Европе. В первой четверти 13 в. в связи с последствиями крестовых походов, способствовавших широкому распространению проказы, была учреждена специальная организация для призрения прокаженных — монашеский орден Святого Лазаря, поэтому и убежища для изоляции прокаженных получили наименование лазаретов. В 13 в. в одной лишь Франции было открыто 2 000 лепрозориев, а всего в Западной Европе их насчитывалось 19 000. Во время эпидемии чумы в Константинополе (332 г. император Юстиниан приказал «очищать» всех путешественников на специальных пунктах и выдавать им удостоверения. Первые санитарные кордоны были введены в Клермонте около 630—650 гг. В 1374 г. власти Милана создали за пределами города «чумной дом» для изоляции больных и подозрительных на заразные заболевания. В Модене, Венеции, Генуе, Рагузе путешественники и купцы подвергались изоляции и наблюдению в течение сорока дней. В 13—14 вв. в Италии, Германии и других странах было положено начало санитарному законодательству и городской санитарии.
В крупных портовых городах Европы, куда торговыми судами могли быть занесены эпидемии, появились особые противоэпидемические учреждения — изоляторы (обсерваторы), был установлен карантин (дословно «сорокадневие» — срок изоляции и наблюдения за судами, их экипажами). В Венеции такой карантин возник в 1374 г., в Рагузе — в 1377 г., в Марселе — в 1383 г. В итальянских портовых городах создавались специальные органы, на которые возлагались санитарно-полицейские функции. В 1426 г. в связи с экономическими интересами средневековых городов были учреждены должности «городовых физиков» (врачей), выполнявших в основном противоэпидемические функции. В ряде крупных городов (Париже, Лондоне, Нюрнберге и др.) были опубликованы правила — «регламенты», имевшие целью предотвратить занос и распространение заразных болезней. С целью предупреждения эпидемий проводились не которые общесанитарные мероприятия — удаление падали и нечистот, обеспечение городов доброкачественной водой.
В 12—13 вв. был осуществлен ряд мер по организации медико-санитарного дела. Изданы законоположения, регламентирующие врачебную практику (первое — указ Роджера Сицилийского в 1140 г. о допуске к врачебной практике лиц, прошедших соответствующий курс обучения), в конце 12 в. началась организация в городах гражданских больниц, были открыты первые аптеки (в 1238 г. — в Венеции, в 1300 г. — во Флоренции). В 1241 г. Фридрих II издал указ об установлении государственного контроля за приготовлением лекарственных средств и хирургической практикой. Органы государственного самоуправления создавали врачебные коллегии для надзора за санитарным состоянием городов, практикой врачей, аптекарей, хирургов и акушерок, для проверки знаний претендентов на врачебную практику в городе независимо от наличия у них университетского диплома.
Медицина средневековой Европы не была бесплодной. Она накопила большой опыт в области хирургии, в распознавании и предупреждении инфекционных болезней, в разработке мер противоэпидемического характера; появились больничная помощь, формы организации медпомощи в городах, санитарное законодательство и т.д.
Медицина эпохи Возрождения (15—16 вв.)
Культура Возрождения возникла в тот исторический период развития европейских государств, когда старые феодальные отношения стали отмирать и начали появляться первые ростки раннекапиталистических отношений, а из средневекового сословия горожан стали формироваться первые элементы буржуазии. Рост городов, городского ремесла и торговли, распространение и развитие простого товарного производства, начавшиеся еще в 12—13 вв., способствовали сосредоточению в руках городской буржуазии крупных капиталов. На рубеже 14—15 вв. создались условия для коренных преобразований в экономике наиболее передовых стран Западной Европы. Хотя феодализм продолжал господствовать, он все более видоизменялся: под влиянием требований рынка перестраивалось феодальное хозяйство; все шире применялся наемный труд и внедрялись товарно-денежные отношения.
Глубокие изменения происходили и в духовной жизни общества. В условиях возросшей деловой активности на передний план выдвигалась человеческая личность, для которой становились тесными рамки сословно-феодальных отношении, церковно-аскетической морали и средневековых традиций. Высвобождение духовной жизни из-под религиозного влияния нашло отражение в развитии светской культуры и гуманистической идеологии. Были подвергнуты критическому пересмотру авторитеты и догмы, сковывавшие свободное развитие мысли, человек и его «земная жизнь» были объявлены центром мироздания, провозглашены вера в безграничные возможности человека, его воли и разума, право на свободу творчества и научного исследования. Пересмотр гуманистами основ религиозного мировоззрения, как правило, не носил характера открытых выступлений против церковных догм. Не все подобно Л. Беркену (1490—1529), Э. Доле (1509—1546), М. Сервету (1509 или 1511—1553) пошли на костер, предпочтя смерть компромиссу, не все осмеливались, как Ф. Рабле (1494—1553), Л. Балла (1405 или 1407—1457), С. Брант (1457 или 1458—1521), бичевать пороки и невежество католического духовенства и монахов или, как И. Рейхлин (1455—1522) и Эразм Роттердамский (1469—1536), публиковать критику текстов Священного писания. Однако светское мировоззрение гуманистов, их натурфилософские и этические теории привели к тому, что духовная диктатура церкви была сломлена.
Утверждая новое мировоззрение, гуманисты обратились к. античному наследию, находя в нем родственные нормы нравственного и прекрасного, основанные на изучении природы и человека, живой «языческий» интерес к окружающей природе и естественным радостям жизни, гармоничность и цельность мироощущения. Гуманисты много сделали для возрождения (отсюда название этого периода в истории культуры) и распространения античного наследия, освобождения его от средневековых наслоений, искажений и ошибок. Огромную роль в распространении античного наследия и новых гуманистических взглядов сыграло изобретение в середине 15 в. книгопечатания. Но культура Возрождения не была простым возвращением к античным традициям, они развивала и интерпретировала античное наследие, исходя из новых социально-экономических и исторических условии.
Возрос интерес к знаниям как в среде городских ремесленников и буржуа, так и в среде феодальной аристократии. В странах Западной Европы начали открываться светские школы. К 15 в. в Европе было уже свыше 40 университетов, в большинстве которых имелись медицинские факультеты. Выдвигая в качестве идеала образованную и гармонически развитую творческую личность, гуманисты подвергли резкой критике всю систему средневекового схоластического обучения, противопоставив ему систему воспитания и образования, свободную от принуждения и телесных наказаний, развивавшую человека умственно и физически, приучавшую к самостоятельному мышлению и формировавшую высокие нравственные качества. Педагогические идеи гуманистов оказали влияние на последующее развитие культуры, образования и науки. Они нашли выражение в трудах Яна Амоса Коменского (1592—1670) и других педагогов Нового времени. положивших начало гигиене обучения и сыгравших важную роль в перестройке системы преподавания, предусматривающей усиление связи теоретического и практического обучения, в т.ч. и на медицинских факультетах университетов. В 15—16 вв.. однако, осуществить эти идеи гуманистам удалось лишь в весьма ограниченном масштабе. Было открыто небольшое число школ гуманистической направленности, главным образом в Италии и Франции. Центром гуманистических идей и нарождающейся новой науки в 15—16 вв. стал Падуанский университет; новые идеи были частично восприняты и другими итальянскими университетами. Тем не менее ведущими источниками в преподавании на медицинских факультетах продолжали оставаться канонизированные тексты Галена, Рази, Ибн Сины, а также составленные на их основе с весьма незначительными добавлениями трактаты отдельных университетских профессоров (например, «Анатомия» Мондино). Изучение анатомии на трупах было еще редкостью. Так, в 16 в. в Тюбингенском университете для анатомирования получали не более одного трупа в год, в Гельмштадском — два, в Лейденском—четыре. Известный врач, профессор Базельского университета Ф. Платтер вспоминал, что в годы обучения в Монпелье (1552—1557) он имеете с другими студентами «добывал» трупы для анатомирования, раскапывая ночами свежие могилы. Вместе с тем в большинстве университетов уже открыто, а порой и резко выступали с критикой и уточнениями учения Галена, в ряде университетов проводились анатомические демонстрации, начали использоваться в преподавании вышедшие в 1538 г. анатомические таблицы А. Везалия и его «Эпитоме» (1543). В 1594 г. в Падуанском университете был построен первый анатомический театр.
Таким образом, явно обозначался отход от канонизированной анатомии Галена. В университетах шла упорная борьба старого (схоластического, церковного) и нового (гуманистического, светского), однако позиции гуманистической стороны были еще весьма неустойчивыми. Для разрешения научных споров все шире практиковались публичные диспуты, на которых обе стороны имели возможность защищать свою точку зрения, публикуя тексты выступлений, памфлеты, статьи и др. И хотя полемика между представителями различных направлений по форме не всегда носила академический характер (нередко вместо научных аргументов на голову противника обрушивались самые отборные ругательства), а установление истины предоставлялось церковным и судебным властям или парламенту, принимавшим решение обычно в пользу стороны, которая имела более могущественного покровителя, образованные люди и студенты получили возможность знакомиться с новыми позициями в науке.
Оппозиция схоластике привела к разрыву философской мысли с богословием, что сначала выразилось в отказе от средневековой лики и развитии на базе идей античных философов основных положений гуманистической идеологии, а затем в критике главных догматов церкви (например, учения о бессмертии души) и в возникновении натурфилософии, свободной от геологии. Мыслители Возрождения, опираясь на создаваемые ими натурфилософские концепции, стремились дать цельную и универсальную картину мира. Но это стремление наталкивалось на недостаток реальных знаний, что вынуждало ученых подменять их поэтическими аналогиями и мистическими догадками (например, учение о «мировой душе», «жизненной силе» и др.) и даже обращаться к «учению» каббалы, магии и другим «тайным наукам», заниматься астрологией и алхимией. Такое смешение рациональных представлений с наивной фантастикой не только отличает философскую мысль эпохи Возрождения от систематической и научной по методу философии Нового времени, но и объясняет, почему «титаны Возрождения» не смогли совершить переворота в естествознании, которым так живо интересовались и в развитие которого внесли весомый вклад.
Эпоха Возрождения — первый период научной революции, ознаменовавшийся критикой и разрушением всей сложившейся средневековой картины мира. преимущественным развитием тех разделов естествознания и техники, которые непосредственно связаны с запросами производства и торговли (мореплавание, инженерное дело, строительство и т.д.), пробуждением интереса к человеку и окружающей природе. Такие крупнейшие, в полном смысле революционные естественнонаучные достижения, как великие географические открытия, гелиоцентрическая система Н. Коперника и новая анатомия А. Везалия, целиком принадлежат эпохе Возрождения Великие географические открытия на практике доказали шарообразность Земли, положили начало мировой торговле, обогатили страны Европы новыми товарами и с.-х. культурами. Так, европейская М. получила новые лекарственные средства — опий, кору хинного дерева, камфору и др. Географические открытия оказали огромное воздействие на сознание современников, расширили представление о мире, показали практическую ценность науки, в частности астрономии, познакомили европейцев с многообразием культурных и этических традиций, научных и технических достижении народов, развивавшихся вне связи с христианским мировоззрением, дали весьма доказательные аргументы для критики схоластики.
Не случайно, что первый и важнейший переворот, приведший к революции в мировоззрении, произошел именно в астрономии, тесно связанной с географией и мореплаванием: это был отказ от канонизированной церковью космологии Аристотеля — Птолемея, ставившей в центре вселенной Землю, и замена ее гелиоцентрической системой мира. Идея вращения Земли вокруг Солнца была сформулирована еще Аристархом Самосским (310—220 гг. до н.э.) и обычно упоминалась как пример абсурдности любой идеи, противоречащей догмам церкви, поскольку каждому ясно, что Земля неподвижна, в то время как движение Солнца, Луны и звезд может наблюдать каждый. Внеся в астрономию критический дух, Н. Коперник показал продуктивность критического подхода к сложившимся представлениям и нанес решительный удар религиозному взгляду на мир.
Критический дух проникал во все отрасли естествознания. В 1536 г. Рамус (П. де ла Раме; 1515—1572) впервые открыто выступил с критикой схоластической логики. С тех же позиций (требование целесообразности и, выражаясь современным языком, эффективности) резкой критике подверглась и средневековая М. «Медицина здоровых ввергает в болезнь, а больных в смерть», — писал один из родоначальников гуманизма итальянский поэт Ф. Петрарка (1304—1374). При этом Ф. Петрарка — не принципиальный противник М., он верит, что медицина — «искусство, когда-то изобретенное», полезна и действенна. Однако из-за приверженности врачей старым истинам и приемам М. в новых условиях обнаружила полное бессилие. Именно это обстоятельство явилось причиной неудовлетворенности Петрарки состоянием М. Он клеймил не столько М., сколько врачей-схоластов. не желавших отказаться от старых догм, и приветствовал тех, кто искал новые пути, действовал и стремился помочь больному.
Значение творчества Ф. Рабле (1494—1553) для развития М. мало изучено: Ф. Рабле-писатель затмил Ф. Рабле-естествоиспытателя и врача. Между тем его медицинская деятельность заслуживает пристального внимания. Питомец Парижскою университета, преподаватель и Монпелье (1530—1532), где в 1537 г. он получил степень доктора медицины. Рабле много и успешно занимался медицинской практикой: работал врачом в Лионской больнице (1532—1534), был личным врачом кардинала Дюбелле, практиковал на юге Франции (приблизительно 1538—1542). При этом врачебная деятельность была для Рабле не только источником существования, но и одной из причин покровительства со стороны власть имущих. Благодаря которому он, несмотря на ненависть католиков и кальвинистов, смог избежать костра. Рабле принадлежат классические переводы Гиппократа и Галена (например, перевод «Афоризмов» Гиппократа, 1532). Наконец, он умело использовал форму сатирического романа не только для критики, но и для популяризации естественнонаучных знаний.
Радикальным пересмотром всей средневековой схоластической М. была деятельность Парацельса. Современники в шутку сравнивали его с М. Лютером (1483—1546). Действительно, Парацельс произвел раскол в М. — своеобразную медицинскую реформацию. Он отвергал сложившиеся традиции и представления, поставив перед собой цель создан, новую М., свободную от рабского преклонения перед древними авторитетами. Книжному схоластическому знанию он противопоставлял наблюдение, опыт. «Теория врача, — учил Парацельс, — есть опыт. Никто не может стать врачом без науки и опыта». Для познания медицины, он советовал путешествовать, знакомясь на месте с особенностями течения различных болезней и условиями жизни своих пациентов: «Врач много странствовать должен. Английские болезни не то, что венгерские, неаполитанские, не то, что прусские; полому ты туда пойти должен, где они находятся. Такова книга законов природы, и так следует страницы ее перелистывать. Что ни страна, то страница. Он открыто порвал с традицией и захотел познать природу без помощи древних, проповедовал свободное исследование. Видимо, за это Парацельс был обвинен в занятиях магией, а его труды внесены католической церковью в список запрещенных.
Основным оружием разрушения старой и создания новой медицины Парацельс избрал химию. И хотя в своих теоретических построениях Парацельс исходил главным образом из старых традиций алхимии, он сумел преобразовать направленность этих традиций. К старым алхимическим антиподам — сере и ртути он добавил нейтральную соль и установленные т.о. три начала (сера — начало сгораемости, ртуть — то, что улетучивается, не сгорая, соль — то, что остается после сгорания) распространил на процессы жизнедеятельности. Здоровье, по Парацельсу, основывается на известном нормальном содержании этих начал в теле человека, при нарушении соотношений между ними наступает болезнь. При всей наивности этих представлений нельзя не признать, что в основе их лежит идея о химическом характере происходящих в организме процессов. Парацельс прямо указывал, что пищеварение — химический процесс, заключающийся в выделении из пищи необходимых для организма веществ, что остатки пищевых продуктов, не усвоенные при пищеварении, могут стать ядами и вызвать болезнь и что причиной некоторых хронических заболеваний служит нарушение химических превращений при пищеварении и всасывании. Важной составной частью взглядов Парацельса является его учение об архее — верховном духе, управляющем жизнедеятельностью организма. Хотя Парацельс и отвергал учение Галена, положение об археях генетически связано с основными положениями галеновской физиологии.
Парацельс — признанный основоположник ятрохимии — направления, ознаменовавшего не только привлечение химии к решению медицинских проблем (говоря современным языком, Парацельс использовал химические исследования для решения вопросов физиологии, патологии, диагностики и терапии), но поднявшего на новую высоту химию, составившего целую эпоху в ее истории. И хотя непосредственные последователи Парацельса (например. И. Ван-Гельмонт) резко критиковали многие его теоретические положения, именно с Парацельса началась кардинальная переориентировка химических исследований «от делания золота» к приготовлению лекарств, возникла тесная связь М. и химии. Деятельность Парацельса и его последователей так прочно связала химию с М., что Р. Бойлю (1627—1691) почти полтора века спустя после смерти Парацельса пришлось доказывать, что «химия не должна более опираться на медицину, что у нее есть самостоятельные задачи».
Внимание Парацельса было постоянно обращено на изучение живого человека, на изыскание действенных лекарственных средств. Анатомия, к которой было приковано внимание многих выдающихся деятелей Возрождения и кардинальный пересмотр которой определил дальнейшее развитие М., отходит у Парацельса на второй план. «Для познания полезных лекарств, — пишет он, — совершенно безразлично знать о том, где лежат мозг и печень». Эта ограниченность подхода, по-видимому, и явилась причиной того, что общефизиологические и общеанатомические положения Парацельса не конкретны, путанны и похожи на мистические заклинания. Вместе с тем Парацельс внес много нового в толкование ряда вопросов хирургии, в т.ч. раневой инфекции. Его книги «Малая хирургия» (1528) и «Большая хирургия» (1536) получили широкое распространение и содержали много полезных практических сведений. Вопреки господствующей в то время точке зрения, он не отделял хирургию от внутренней М., считая их «исходящими из единого знания». Парацельсу мы во многом обязаны тем, что в качестве лекарственных средств стали применять минеральные вещества, с лечебной целью использовать минеральные воды. Он пересмотрел и арсенал растительных лекарственных средств, разработал приемы выделения из них действующего начала и применения их в виде тинктур, экстрактов и эликсиров. Он указал на диагностическое значение химического исследования мочи и др.
В попытке выяснить и связать воедино естественнонаучные (главным образом химические) и философские основы медицины Парацельс стоял на позициях платонизма (философия Платона вообще имела широкое распространение среди гуманистов Италии, в частности в Ферарре, где Парацельс учился в университете). Человек — повторение и копия внешнего мира — макрокосма, в котором, как в раскрытой книге, обнаруживается сокровенная природа человека — микрокосм. Человек создан по модели какого-то небесного существа, и Парацельс неоднократно употреблял термин «анатомия» в смысле модели, идеи (парадигмы), по которой созданы все вещи. Он видел бога в природе, а «верховного демиурга» Платона называл «верховным аптекарем». За эту сторону учения Парацельса ухватились ученые Нового времени, которые называли его шарлатаном. Парацельс был человеком переходной эпохи и не смог, как и многие его современники, полностью освободиться от средневековых взглядов.
Специфической особенностью науки эпохи Возрождения была ее тесная связь с искусством. Процесс преодоления религиозно-мистических абстракций и догматизма протекал одновременно и в науке, и в искусстве, иногда в творчестве одной личности (яркий пример — творчество Леонардо да Винчи). Причем изобразительное искусство было областью, в которой с особой силой проявилось великое переломное значение эпохи Возрождения.
Обращение к человеку как к высшему началу бытия, стремление показать живого реального человека, красоту и гармонию его тела потребовали прежде всего знания анатомии. Несмотря на обилие исследовании по истории анатомии, вопрос о причинах переворота в анатомии, произошедшего во второй четверти 16 в., остается недостаточно ясным. Хотя новая анатомия сыграла определяющую роль в возникновении научной физиологии и оказала огромное влияние на дальнейшее развитие VI., эти обстоятельства сами по себе не служат доказательством того, что основной причиной отказа от галеновой анатомии и замены ее анатомией Д. Везалия была потребность развивающейся М. Весьма примечательно, что даже наиболее крупных клиницистов 15—16 вв., таких как Дж. Фракасторо (1478—1553). Дж. Монтано (1489—1552). Ж. Фернель (1497—1558) и др., анатомия интересовала мало. Они не видели в ней большой пользы для практического врачевания. Об отсутствии у врачей интереса к анатомии пишет в своем посвящении к «Эпитоме» (1542) А. Везалий: «Помимо этого зловредные врачи, стремящиеся в повседневной жизни к людской погибели, даже никогда не присутствовали на вскрытиях».
В непогрешимости анатомических положений Галена анатомы того времени были убеждены совершенно искренне. Например, Я. Сильвиус, проводивший вскрытия в более широком масштабе, чем его предшественники по кафедре Парижского университета, считал данные, обнаруженные при вскрытии, аномалиями, если они не соответствовали описаниям Галена. Анатомы 14—15 вв. и не могли внести сколько-нибудь существенных изменений в анатомию. поскольку были лишены возможности самостоятельно и систематически исследовать строение человеческого тела на трупах. Разрешенные властями единичные публичные вскрытия-демонстрации (1—2 трупов в год) не могли дать достоверного материала для постановки вопроса о радикальном пересмотре представлений о строении человеческого тела, а, кроме того они проводились не с исследовательскими целями. А. Везалий в своем посвящении к «Эпитоме» указывает, что до сих пор и со времен Галена в области анатомии сделано очень мало...». Поэтому интерес художников Возрождения к анатомии и их анатомические занятия имели важное научное значение.
Для изучения деталей строения человеческою тела они сами вскрывали и препарировали трупы, что отличало художников от профессиональных анатомов средневековья, которые производили вскрытия-демонстрации исключительно для иллюстрации текстов Галена. Только после А. Везалия анатомы начали лично производить вскрытия трупов для исследования строения тела человека. Так поступал преемник А. Везалия но кафедре Падуанского университета Коломбо (1516—1559) Многие художники делали зарисовки своих анатомических наблюдений, на которых детали строения давались точнее, чем эти описывалось в анатомических трактатах того времени. Есть достаточно оснований считать, что их рисунки становились достоянием врачей, хотя бы потому, что в итальянских городах 15—16 вв. врачи и художники объединялись в одном цехе. Влиятельные деятели католической церкви и представители светских властей покровительствовали художникам, которые должны были увековечить и придать необходимый блеск их власти. И хотя вскрытие трупов было официально запрещено, церковные и светские власти смотрели сквозь пальцы на анатомические занятия скульпторов и живописцев, а нередко и способствовали иМ. Так, Леонардо да Винчи за годы жизни в Милане, Флоренции и Риме не без ведома властей вскрыл едва ли не больше трупов, чем их вскрывали во всех итальянских университетах вместе взятых. Это было в то время, когда в Париже в Монпелье вскрывали не более 2—3 трупов в год. Т.о., живописцы как бы пробили брешь в стене неприятия и запрета анатомирования трупов. После достаточно многочисленных, хотя и неофициальных (или, точнее, полуофициальных) анатомических занятий живописцев и скульпторов к вскрытиям и препарированию трупов постепенно привыкли, на них, как и на изображение обнаженных тел, перестали смотреть как на нечто эксквизитное и греховное. Видимо, поэтому и с А. Везалием обошлись по тем временам сравнительно мягко: требование совершить паломничество было наказанием не столько за систематическое анатомирование (опубликование им в 1538 г. анатомических таблиц, ясно свидетельствующих о том, что их автор систематически вскрывает трупы, прошло для А. Везалия безнаказанным), сколько за посягательство на авторитет канонизированного церковью Галена. Да и наложенная на А. Везалия епитимья была не столь уж сурова в те годы, когда по всей Европе пылали костры инквизиции.
Анатомические занятия скульпторов и живописцев начались в Италии (Флоренция, Венеция), по-видимому, не позднее второй половины 14 в. Во всяком случае во второй четверти 15 в. первые теоретики изобразительного искусства Возрождения писали о необходимости анатомических знаний. Так, выдающийся флорентийский скульптор Л. Гиберти (около 1381—1455) в своих «Комментариях» писал, что скульптор должен «точно знать каждую кость человеческого тела и все мышцы, сухожилия и связки, в которых может встретиться надобность при лепке». Дальше других как в изобразительном искусстве, так и в анатомических исследованиях пошел Леонардо да Винчи. Он проповедовал отказ от изображения статической фигуры и призывал к изображению тела в движении. Это. естественно, потребовало глубокого изучения всех разделов анатомии, которому Леонардо да Винчи посвятил свыше 25 лет.
Значение творчества Леонардо да Винчи для развития анатомии нельзя определить однозначно. С одной стороны, в процессе вскрытий и анатомических зарисовок им были сделаны крупные открытия: он первый правильно определил форму и пропорции всех частей тела, почти на два века раньше В. Купера (1694) создал первую классификацию мышц, использовал законы механики для объяснения строения двигательного аппарата, первым установил, что сердце — полый мышечный орган, состоящий из 4 (а не из 3, как считали в то время) камер, открыл щитовидную железу и др. С другой стороны, анатомические открытия Леонардо да Винчи были мало известны современникам, а анатомические рисунки после его смерти пропали и были обнаружены только во второй половине 18 в. Судьба выдающихся анатомических открытий Леонардо да Винчи оказалась трагической: они стали достоянием человечества уже после того, как были открыты вторично. Огромный, хотя и несистематизированный материал анатомических наблюдений, до сих пор поражающие зрителя точностью и выразительностью анатомические рисунки Леонардо да Винчи остались лишь впечатляющим памятником человеческому гению; они не сыграли той роли в истории науки, которую могли бы сыграть. Переворот в анатомии суждено было совершить 28-летнему А. Везалию.
Революционность открытия А. Везалия не ограничивается лишь внесением поправок, хотя и весьма существенных, в анатомические положения Галена. Кстати, А. Везалий относился к Галену со значительно большим уважением, чем это пытались изобразить его враги, да и некоторые из последователей. Он хорошо знал труды Галена, был переводчиком некоторых из них и высоко ценил Галена как исследователя, естествоиспытателя и врача. Однако, несмотря на это, он выступил с опровержением галеновской анатомии, веками преподававшейся на медицинских факультетах университетов, доказывая, что она представляет собой анатомию обезьяны и других животных и существенно отличается от строения человеческого тела. А. Везалий разработал метод анатомического исследования, предусматривающий изучение строения человеческого тела, а также отдельных его частей на трупе путем многократных наблюдений. Кроме того, сопоставляя результаты вскрытий трупов человека и животных, он определял особенности строения частей тела человека в связи с особенностями их функций. В этом отношении А. Везалия справедливо считают не только основоположником научной анатомии, но и основоположником функционально-морфологических и сравнительно-морфологических исследований. Физиологические представления А. Везалия были ятромеханическими: он уподоблял кости, суставы, мышцы шарнирам и рычагам, сердце — насосу и т.д. Ятрофизика в тот период только зарождалась, и ей наряду с ятрохимией было суждено сыграть важную роль в развитии медицины в 17 в. и первой половине 18 в.
Настойчивое стремление А. Везалия к ревизии галеновской анатомии имело причины отнюдь не академические. В отличие от большинства клиницистов своего времени он был убежден в том, что анатомия является одной из основ М. что детальное знание ее необходимо каждому врачу. «Анатомия, — писал А. Везалий, — основа и начало всего искусства врачевания, и как глубоко необходимо нам, имеющим влияние на медицину, знание человеческих органов; каждый из нас вполне подтверждает, что во врачевании болезней это знание также достойно претендовать на первое место, чтобы указать надлежащее употребление лекарственных средств». По-видимому, это убеждение определяло и его стремление усовершенствовать преподавание анатомии. Сначала он издал и ввел в преподавание анатомические таблицы, затем создал «Эпитоме» — непревзойденный образец педагогического труда. Видимо, следующим шагом должно было стать преподавание на трупе: не демонстрация на лекциях, а подлинно секционные занятия. Но сделать этого А. Везалий не успел. Выход в свет его капитального труда «О строении частей человеческого тела» (1543) был воспринят как разорвавшаяся бомба. Анатомический мир Европы разделился на два враждующих лагеря. Учитель А. Везалия Я. Сильвиус возглавил группу профессоров (Б. Евстахий, Ж. Дриандер и др.), выступивших в защиту галеновской анатомии. Не имея достаточных научных аргументов, ортодоксальные галенисты в пылу полемики договорились до утверждения, что люди 16 в., очевидно, иначе устроены, чем люди 2 в. А. Везалий имел немало сторонников, но силы были неравными. Вначале А. Везалий вынужден был оставить кафедру в Падуе, а затем, поскольку опровергнуть результаты его исследований не удалось, противная сторона прибегла к клевете. А. Везалий был обвинен в аутопсии живого человека («свидетели», разумеется, нашлись) и для искупления греха вынужден был совершить паломничество ко гробу господню в Палестину. На обратном пути он погиб.
А. Везалий остался в памяти потомков как гениальный ученый, смелый первооткрыватель, мужественный борец за торжество истины, за применение опыта в изучении природы и человека. Исследования А. Везалия положили начало систематическому анатомированию, благодаря чему 16 в. стал веком выдающихся анатомических открытий, связанных с именами Г. Фаллопия, Б. Евстахия, К. Варолия, Л. Боталло, Р. Коломбо и др. Анатомические работы этих исследователей явились основой понимания процессов, совершающихся в организме, т.е. основой физиологических знаний. Центральное место занимало изучение кровообращения (о работах врачей Древнего Китая и арабского врача Ибн ан-Нафиса, жившего в 13 в. которые писали о малом круге кровообращения, в Европе того периода не было известно). Так, в отличие от Галена, утверждавшего, что кровь проникает из правого желудочка сердца непосредственно в левый желудочек через отверстия в сердечной перегородке, А. Везалий установил непроницаемость этой перегородки в послеутробном периоде. Он же описал клапаны сердца. Так были созданы предпосылки для открытия легочного кровообращения. Р. Коломбо описал путь движения крови в легких. Г. Фаллопий, критикуя А. Везалия, внес ряд уточнений и исправлений в ею описания: он изучал также развитие человеческого зародыши и его сосудистой системы. Дж. Фабриций (1533—1619) описал венозные клапаны, доказав тем самым, что по венам кровь движется к сердцу, а не от сердца. О малом круге кровообращения писал в своей еретической книге «Восстановление христианства» (1553) испанский врач и философ М. Сервет, сожженный в 1553 в Швейцарии. О круговом обращении крови в организме писали в конце 16 в. Дж. Бруно, еретик, осужденный инквизицией и сожженный в 1600 г., римский, профессор А. Чезальпино (1519—1603) и др.
В результате накопления анатомических данных на смену представлению о снабжении организма кровью, образующейся в печени, господствовавшему около полутора тысяч лет, постепенно пришло понимание кругового обращения крови в организме. Но честь этого открытия, ознаменовавшего собой возникновение научной физиологии, принадлежала уже другому веку, и для его обоснования понадобился новый научный метод.
Бурные споры эпохи мало коснулись клинической М. В течение всего 16 в. галено-арабское влияние на нее оставалось преобладающим. В наиболее «радикальных» трактатах по внутренней М. классическая галеновская традиция излагалась наряду с химическими концепциями Парацельса, к которым ведущие клиницисты 16 в. относились с большой осторожностью, если не с предубеждением. Вместе с тем появлялись и новые веяния.
Наблюдение у постели больного, сбор и систематизация симптомов, поиски «природы болезней» постепенно заменяли прежнее толкование заученных текстов древних медицинских авторитетов. Положительное влияние на возникновение и развитие нового клинического метода оказали, с одной стороны, наследие Гиппократа и следовавших ему античных врачей, с другой — средневековых врачей Востока (Ибн Аббаса, Ибн Сины и их последователей). В этом отношении важное значение для развития клинической М. имели новые правильные переводы трудов Гиппократа, Галена, византийских врачей и их сравнительно широкое распространение благодаря книгопечатанию. В 1456 г. вышла в свет первая печатная медицинская книга «Календарь кровопусканий и слабительных», в 1473 г. — первый медицинский словарь, в 1473 г. изданы труды А. Цельса, в 1473 г. — «Канон врачебной науки» Ибн Сины, в 1486 г. — труды Рази, в 1525 г. — первый латинский перевод Гиппократа и т.д. Представителем нового клинического метода в Падуанском университете был Дж. Монтано. Преподавание он вел в больнице. «Учить можно не иначе, как посещая больших,... источник медицинской науки — только у постели больного», — гласили основные его положения. Многочисленные ученики и последователи Дж. Монтано распространяли его клинические метолы в других странах Европы.
В то же время многие крупные медицинские центры продолжали придерживаться (с небольшими изменениями) общего направления средневековой схоластической М. Таким хранителем традиционной схоластической М. был, в первую очередь, Парижский университет — Сорбонна. Но и здесь имелись представители передовой науки, выдерживавшие нелегкую борьбу с реакционным большинством; среди них был Ж. Фернель, оставивший труды по клинике внутренних болезней и сифилидологии; им введены термины «физиология» и «патология» в значениях, близких к современным.
Опустошительные эпидемии инфекционных болезней в 15—16 вв., как и в средние века, продолжали оставаться бичом населения Европы. Поэтому естественно преобладание в медицинской литературе описаний заразных болезней и мер борьбы с ними (эпидемиография). Большую роль в выяснении природы заразных болезней и их систематизации сыграл труд профессора из Падуи Дж. Фракасторо «О контагии, контагиозных болезнях и лечении» (1546). Он же описал сифилис в поэме «О сифилисе, или галльской болезни» (1530). Главной заслугой Дж. Фракасторо помимо детального описания заразных болезней (сифилиса, сыпного тифа, туберкулеза, малярии, кори и др.) являются систематизация путей передачи инфекции (при непосредственном контакте, через окружающие предметы и на расстоянии) и предположение о «специфических семенах» (возбудителях) различных болезней. Дж. Фракасторо не порвал окончательно с прежними представлениями о непосредственном возникновении заразы в воздухе при особой «конституции» последнего и с другими пережитками средневековой М. Но в то же время ею учение содержало догадки о сущности инфекции и механизмах ее передачи, способствовало последующему развитию научной эпидемиологии. Из врачей, описывавших заразные болезни после Дж. Фракасторо, виднейшее моего занимает Дж. Меркуриали (1530—1606), преподававший в Падуе и оставивший крупные труды о чуме и детских болезнях.
Эпидемическая вспышка сифилиса на рубеже 15—16 вв. и последующее его распространение в чрезвычайно тяжелой форме по всему миру стояли в центре внимания всех медиков того времени. Клинике и, выражаясь современным языком, эпидемиологии сифилиса, а также мерам борьбы с ним в 16 в. была посвящена обширная литература (так называемая сифилография).
В связи с ростом и развитием мануфактурного производства начал появляться интерес к изучению условий труда и особенностей патологии рабочих, занятых и различных отраслях производства. Одной из первых медицинских работ этого направления была небольшая книга У. Элленбога «О ядовитых и вредных испарениях и дымах металлов» (написана в 1437 г., напечатана в 1524 г.), в которой описывались профессиональные вредности золотильщиков и рабочих некоторых других профессий, занятых обработкой металлов. Много внимания изучению производственных вредностей уделял Парацельс. В его книгах о болезнях рудокопов (1532) и литейщиков (1534) дана подробная симптоматика острых и хронических отравлений серой, свинцом, ртутью, сурьмой. В работах Г. Агриколы (1494—1555) кроме описаний профессиональных болезней рабочих некоторых отраслей горнорудного и металлургического производства и средств их лечения содержатся и гигиенические рекомендации по предупреждению действия производственных вредностей. В частности, рекомендуются ношение защитной обуви и одежды, специальное питание, описываются способы устройства шахтных лестниц, крепления шахтных стволов, удаления вод, вентиляции шахт и даже предлагаются проекты механических устройств для вентиляции (машин для проветривания) и т.д. Врач рудника в Люнебурге С. Штокгузен описал (1556) чахотку рудокопов, картину свинцовой колики, рекомендовал рудокопам и литейщикам носить на работе повязки, прикрывающие рот и нос, и т.д. Изучение вопросов профессиональной гигиены было продолжено в 17 в. Дж. Борелли, Г. Шталем (1659—1734), Ф. Гоффманном и др.; в 1700 г. вышел в свет классическии труд Б. Рамаццини «О болезнях ремесленников».
Значительные преобразования в хирургии связаны прежде всего с деятельностью А. Паре. Вместо мучительного лечения ран прижиганием раскаленным железом или заливанием кипящим смолистым раствором («бальзамом») он ввел наложение повязки из чистой ткани, заменил перекручивание и сдавливание сосудов перевязкой (лигатурой): предложил ортопедические аппараты — искусственные конечности: улучшил методы ампутации; в акушерскую практику ввел поворот на ножку (известный еще в Древней Индии, но затем забытый). Установлено, что часть хирургических нововведений А. Паре принадлежит не ему одному, они были предложены в том или ином виде и рядом других хирургов — его современников в различных странах — Парацельсом, цюрихским хирургом Ф. Вюрцом (1518—1574), немецким хирургом В. Фабри (1560—1634), некоторыми испанскими и итальянскими хирургами. Эти совпадения говорят о том, что преобразования в хирургии в 16 в. были не случайными, а назрели и отражали определенный уровень развития знаний. Ученик А. Паре, выдающийся акушер и хирург Дж. Гийемо (1550—1613), создал школу французских акушеров. Ученицей А. Паре была и широко популярная акушерка Л. Буржуа (1563—1636) автор труда «О плодородии, бесплодности, родах и болезнях женщин и новорожденных» (1609).
Во второй половине 16 в. гуманистические нормы и идеалы значительно трансформировались. В условиях острых классовых столкновений, победы в одних странах феодально-католической реакции, а и других — протестантства (утвердившись, оно проявило себя столь же нетерпимым к свободомыслию, как и католицизм) наступил кризис гуманизма эпохи Возрождения, связанный главным образом с осознанием антигуманистических черт складывающегося буржуазного общества.
Эпоха Возрождения — «величайший прогрессивный переворот». И хотя деятели Возрождения сумели решить лишь небольшую часть поднятых ими проблем, они все же разрушили старое мировоззрение и подготовили почву для осуществления многих своих замыслов в период великой борьбы идей последующих двух столетий. Первые успехи в развитии естественных наук создали условия для становления новой экспериментальной науки. С «бунта» Парацельса, с новой анатомии А. Везалия, разрушивших средневековую схоластическую М., с первых, еще не вполне ясных представлений о функциях организма и ее отдельных органов, о химизме физиологических и патологических процессов начала свою историю научная медицина.
Медицина Нового времени (17—18 вв.)
17 в. ознаменован деятельностью плеяды блестящих мыслителей, заложивших основы современного естествознания и далеко продвинувших вперед общественные науки, особенно философию. Ф. Бэкон (1561—1626) и P. Декарт (1596—1650), X. Де Руа (1598—1679) и П. Гассенди (1592—1655), Б. Спиноза (1632—1677) и Г. Лейбниц (1646—1716), Т. Гоббс (1588—1679) и Дж. Локк (1632—1704) создали детально разработанные философские системы, развивающие материалистические и атеистические идеи, противопоставляющие философию и научное знание религии.
Критика основных естественнонаучных представлений и средневековой картины мира деятелями Возрождения создала необходимые условия для формирования нового мировоззрения, разделения сферы объективного знания и религии. Набиравшая силу буржуазия, стремившаяся подорвать идеологический оплот феодализма — католическую церковь, была заинтересована в развитии практических знаний и поддерживала идею освобождения науки от влияния церкви.
К 17 в. политическая ситуация в Европе изменилась. В Англии победа буржуазной революции 1640—1649 гг. обеспечила политическое господство буржуазии, что дало возможность ее идеологам последовательно развивать прогрессивные для своего времени концепции механического материала, пропагандировать и внедрять опытно-экспериментальный метод исследования природы. В других развитых странах Европы, несмотря на преобладание буржуазии в области экономики, политическое положение ее было неустойчивым, поскольку институты государственной власти были полностью феодальными. Церковь оправилась от удара, нанесенного гуманизмом и реформацией: 16 в., особенно его вторая половина, и первая половина 17 в. — период «контрреформации» и религиозных войн, в результате которых католицизм во Франции, Италии и Испании полностью возвратил утраченные позиции. Одновременно усилилась и протестантская реакция. Церковь с молчаливого согласия буржуазии начала расправу с наиболее передовыми философами и естествоиспытателями. В 1600 г. был сожжен Дж. Бруно. В 1631 г. перед церковным судом предстал X. Де Руа: его материалистические взгляды на сущность души и ее соотношение с телом были признаны еретическими. В 1633 г. суд инквизиции принудил Галилея отречься от учения о вращении Земли вокруг Солнца. В 1624 г. за попытку провести в Париже публичный диспут против некоторых положений Аристотеля французский врач Э. де Клав был заочно приговорен к смертной казни. По всей Европе пылали костры, сжигавшие ведьм и колдунов.
Решающее влияние на естествознание и М. оказали развиваемые передовыми философами 17 в. положения механистического материализма, разработка и обоснование новых методов познания. Важнейшим из них был опытно-экспериментальный метод исследования природы, разрушительный для многовековых представлений и домыслов религиозно-схоластической философии. С его обоснованием выступил английский философ Ф. Бэкон. Убежденный противник схоластики Ф. Бэкон выдвинул программу обновления наук, создал их классификацию и разработал методологию научного познания. Наряду с общими вопросами научного познания Ф. Бэкон интересовался проблемами современной ему М. Основными задачами М. он считал охранение и укрепление здоровья, искоренение болезней, продление жизни человека. Однако для выполнения этих задач, по мнению Ф. Бэкона, требовалось совершенствование врачебного искусства, ибо в прежней М. «мы встречаем много повторений, но мало истинно новых открытий». Такие открытия, касавшиеся «природы самого человека», могут быть получены только экспериментально. Не исключая значения симптоматического лечения, Ф. Бэкон считал единственно обоснованным и наиболее эффективным лечение, воздействующее на причину болезни. При этом причину болезни он понимал механистически, полагая, что проявления болезни адекватны изменениям в соответствующих органах. С этих позиций он говорил о необходимости изучать морфологические изменения при различных заболеваниях. Его призыв — «... следовало бы в анатомических исследованиях тщательно наблюдать за следами и результатами болезней, за поражениями и повреждениями, причиняемыми ими во внутренних частях» — предвосхищал первые попытки швейцарских врачей Ш. Бонне (1620—1689) и И. Вепфера (1620—1695) систематизировать результаты проводившихся в Европе главным образом с педагогическими целями вскрытий и сопоставить обнаруженные при этом отклонения в строении органов с клиническими данными. Ф. Бэкон считал одним из существенных недостатков практической М. отсутствие правильного метода и рекомендовал врачам вырабатывать план лечения каждого больного, систематически записывать все свои наблюдения за больными, сводить эти записи в медицинские описания, тщательно составленные и обсужденные. Поддерживая контакты со многими врачами, прежде всего с У. Гарвеем (1578—1657), и занимаясь экспериментальными работами в области физиологии и патологии, Ф. Бэкон поставил перед М. ряд конкретных задач: применение эффективных болеутоляющих средств в хирургии; использование искусственных минеральных вод для лечения болезней; разработку новых средств рационального питания типа пищевых концентратов.
На развитие философии и естественных наук в 17—18 вв. большое влияние оказала деятельность французского мыслителя Р. Декарта. Его философские и естественнонаучные взгляды сочетали положения механистического материализма и идеализма (существование тела и души, бога и реального мира: бог сотворил материю, движение и покой). Цель познания, по Р. Декарту, — установление взаимосвязи явлений, поскольку «естественный порядок» представляет собой бесконечную цепь причинных связей. Разум — основа познания и поведения, источник знания и критерий его истинности. Организм — часть телесной природной субстанции, элементы которой взаимодействуют друг с другом под влиянием внешних воздействий. Жизнь — процесс, представляющий собой единство постоянных непосредственных реакций тела на эти воздействия. Разделив нервы на центростремительные, проводящие к мозгу импульсы, вызываемые внешними раздражителями, и центробежные, проводящие импульсы от мозга к приводимым в движение частям тела. Р. Декарт ввел представление о рефлексах и разработал схему рефлекторной дуги, полагая, что все процессы жизнедеятельности (кроме мышления) имеют чисто рефлекторную природу. Мышление же является функцией души, а не тела, оно не может быть объяснено пространственным взаимодействием телесных структур. Все духовное, в частности мышление как одно из его проявлений, — особая («духовная») субстанция, существующая наряду с телесной. Человек, по Р. Декарту, есть существо, в котором механическое тело соединено с нематериальной душой. Между телом и душой существует взаимодействие, происходящее в шишковидной железе. Тело человека — автомат, его движущей силой является теплота, средоточием которой Р. Декарт считал сердце, источником теплоты служат происходящие в теле процессы «сгорания без пламени». Он дал чисто механическую трактовку процессам кровообращения (повторив при этом теорию У. Гарвея) и пищеварения, сформулировал соматическую теорию боли, голода и жажды (в которых отличал телесные движения и явления от сопровождающих их ощущений) и опирающуюся на оптику теорию зрения, а также физиологическую теорию памяти.
Р. Декарт отделял соматические проявления от психической деятельности, его физиология в целом носила прогрессивный характер. Он первый сформулировал рефлекторный принцип основных проявлений жизнедеятельности, являющийся основным инструментом взаимосвязи организма со средой, показал, что сложность строения человеческого тела и механизмов взаимодействия его частей не противоречит тому, что они образованы природой и действуют на основе законов механики. Механистические физиологические воззрения Р. Декарта были развиты Т. Гоббсом, Ж. Ламетри (1709—1751) и другими философами-материалистами, оказали влияние на представителей ятрофизического (ятромеханического) направления в медицине.
Рационализм Р. Декарта — один из философских источников идеологии французских просветителей. Идеалистические концепции Р. Декарта использовались представителями окказионализма (утверждали принципиальную невозможность взаимодействия души и тела без прямого вмешательства бога) и виталистами. Идея жесткой детерминированности внешних влияний и физиологических проявлений была в дальнейшем перенесена на истолкование интимных биологических процессов.
Ученик Р. Декарта врач и философ X. Де Руа, развивая идеи своего учителя, отказался от присущего ему дуализма, стремился связать психическое и физическое в человеке. X. Де Руа объявил душу «модусом тела», а идеи — механическим движением, считая, что душа органически связана с телом, «мышление... есть тот внутренний принцип или та способность, из которой непосредственно происходят действия мышления в человеке...», т.о., мышление наряду с движением — одна из способностей человеческого организма. Несмотря на преследования церкви, X. Де Руа последовательно отстаивал позиции материалистического монизма и по праву считается провозвестником французского материализма 18 в.
Материалистическая философия в 18 в. приобретает более выраженную атеистическую и политическую окраску. Выражением антифеодальных позиций революционной буржуазии стала идеология деятелей просвещения и французских материалистов. П. Бейль (1647—1706) в своем двухтомном «Историческом и критическом словаре» (1695—1697) высказывал обоснованные сомнения в правомерности не только «естественноисторических основ» христианства, но и его морально-этических принципов и даже брал под защиту атеистов. Французский буржуазный атеизм и социологические учения представителей старшего поколения французских просветителей (Вольтера (1694—1778), Ш. Монтескье (1689—1755), Ж.Ж. Руссо (1712—1778)] были менее последовательны и радикальны. Вместе с тем их блестящие по форме и содержанию антиклерикальные и социологические произведения, призывавшие к раскрепощению разума и свободе совести, сыграли огромную роль в развитии общественной мысли и формировании идей Великой французской революции.
Яркими представителями собственно философской мысли эпохи Просвещения во Франции были Ж. Ламетри, П. Кабанис (1757—1808), энциклопедисты Э. Кондильяк (1715—1780), Д. Дидро (1713—1784), Ж. Д'Аламбер (1717—1783), К. Гельвеций (1715—1771), П. Гольбах (1723—1789) и др.
Итогом многолетнего труда группы французских философов-материалистов и естествоиспытателей стала «Энциклопедия наук, искусств и ремесел», являющаяся не только выдающимся научным, но и крупнейшим политическим документом своего времени и сыгравшая огромную роль в развитии и распространении материалистических и атеистических идей и нового естествознания.
Идеология Просвещения, получившая наибольшее развитие во Франции, не была специфически французским явлением. В Германии идеи Просвещения развивали Г. Лессинг (1729—1781). И. Гердер (1744—1803), И. Гете (1749—1832). В России идеология Просвещения возникла в 18 в. и приобрела ярко выраженную революционно-демократическую и антикрепостническую направленность. Особо важное значение для развития в России естествознания, основанного на принципах материалистическою монизма, имела деятельность М.В. Ломоносова (1711—1765).
Материализм в медицине 18 в. нашел наиболее ясное выражение в трудах П. Кабаниса, твердо стоявшего на позициях первичности материи и утверждавшего, что все понятия образуются посредством чувства и являются результатом ощущений. Основная заслуга П. Кабаниса состоит в попытке создания общей материалистической теории М., опиравшейся на достижения естествознания, и доказательства научного характера медицины.
Будучи видным представителем механистического материализма, П. Кабанис сумел в целом ряде вопросов преодолеть его ограниченность. Так, он возражал против основного принципа механицистов — безоговорочного распространения на М. положений механики и математики. Результаты подобного распространения он считал заведомо и неизбежно ошибочными и вредными. Механические, физические или химические гипотезы являются совершенно недостаточными для объяснения основных жизненных процессов. Следует наблюдать живые тела, на них непосредственно должны производиться опыты: и лишь рассмотрением фактов, почерпнутых из этого источника, можно будет добыть точные сведения. П. Кабанис сумел избежать свойственного ряду естествоиспытателей — представителей механистическою материализма игнорирования специфичности живого организма. Однако в вопросе о соотношении физического и психического П. Кабанис остался на механистических позициях: мозг он уподоблял печени и мышление — выделению желчи. В годы французской революции П. Кабанис предложил ряд реформ улучшению больничного дела и системы подготовки врачей.
К концу 18 в. значение механистического материализма как ведущего направления прогрессивной философской и естественнонаучной мысли резко уменьшилось. Сыграв важную роль в борьбе с религиозно-догматическим мировоззрением, во внедрении опытно-экспериментального метода познания природы и развитии ряда разделов естествознания, механистический материализм был вместе с тем односторонним мировоззренческим принципом. Многие факты, полученные естествоиспытателями в области химии, биологии, физиологии, не могли быть объяснены с позиций механистического материализма, а игнорирование идеи развития и абсолютизация законов механики приводили к метафизической картине мира. Эта ограниченность и непоследовательность механистического материализма, а также сохранившееся влияние идеалистической философии, которая во многих областях естествознания продолжала занимать ведущие позиции, послужили причиной того, что попытки создания теоретических обобщений в медицине 18 в. нередко реализовывались на основе идеалистических представлений. Господствовавшая в Новое время в биологии и М. эмпирическая логика механицизма закономерно приводила исследователей либо к чисто механистическим, либо к виталистическим объяснениям проблем физиологии и патологии.
Генез различных виталистических систем, получивших развитие в М. конца 17—18 вв., был связан с дуализмом, восходившим еще к философским системам Древнего мира и воскрешенным средневековыми номиналистами и Р. Декартом. На основе дуалистических представлений возникли различные теории, объяснявшие специфику проявлений органической жизни с помощью введения понятий особых нематериальных и непознаваемых факторов — «жизненная сила», «порыв» и т.п. Собственно виталистические представления о «жизненной силе» оформились в 18 в.
Виталистическими, по существу, были представления ятрохимиков. Учение Парацельса об архее («дух жизни»), управлявшем всеми процессами жизнедеятельности, сводившимися к химическим (материальным) процессам, носило выраженный дуалистический характер. Сходные воззрения в 17 в. развивал И. Ван-Гельмонт (1577—1644). Выраженный виталистический характер имело учение известного химика и врача, автора теории флогистона, сыгравшей на определенном этапе развития химии положительную роль. Г. Шталя (1659—1734) — анимизм. В своей книге «Истинная теория медицины» он утверждал, что целесообразное устройство живых существ и их самосохранение зависят от разумной деятельности души, «которая сама строит себе тело, управляет и движет его без посторонней помощи». Болезнью Г. Шталь считал «сумму движений, вызываемых душой для освобождения тела от внедрившихся в него вредностей».
Немецкий врач Ф. Гоффманн (1660—1742), медицинские воззрения которого близки к представлениям ятрофизиков, развил «динамическое» учение о движении в организме (крови, пищеварительных соков и др.) как основе здоровья и о прекращении движения, закупорке как общей причине болезни. Движение, или «тонус», организма, по Ф. Гоффманну, регулировалось нематериальным нервным флюидом (эфиром), исходившим из желудочков мозга. Учение Ф. Гоффманна о «тонусе» организма, движении соков и закупорках восходит к общепатологическим представлениям Асклепиада и методической школы. Что же касается вездесущего гоффманнского флюида, то он имеет значительное сходство с виталистическим духом (археем, или «жизненной силой»). Представления Ф. Гоффманна были очень популярны в Европе 18 в. и оказали влияние на формирование медицинских взглядов У. Куплена (1710—1790) и Дж. Броуна (1735—1788) в Англии и Ф. Бруссе (1772—1838) во Франции.
У. Куллен на основе открытий Т. Виллизия, физиологических работ А. Галлера и др., показавших значительную роль нервной системы в организме, и «динамического» учения Ф. Гоффманна обосновал «нервный принцип» как верховный регулятор всех жизненных процессов. Напряжение нервной системы вызывало, по У. Куллену, судорожные явления, которые могли иметь различное выражение, расслабление же нервной системы, наоборот, приводило к атонии. Терапию в соответствии с этим пониманием он делил на противосудорожную и противодействующую атонии. Ученик У. Куллена Дж. Броун развил эту систему и способствовал значительной се популяризации. В своем главном произведении «Элементы медицины» (1780) он считал возбудимость основной сущностью жизни. Здоровье Дж. Броун определял как нормальное состояние возбудимости, болезнь — как повышение или понижение возбудимости, как гиперстеническое или астеническое состояние. Последователи Дж. Броуна (сторонники броунизма) пользовались особым «барометром» болезней для определения нужной терапии. Очевидно влияние на это учение идей учителя У. Куплена Ф. Гоффманна. У. Куллен и Дж. Броун подвели под развивавшиеся ими представления фундамент из данных анатомии и физиологии нервной системы. Близкие учению Куллена Броуна взгляды лежали в основе бруссеизма — медицинской системы французского врача Ф. Бруссе.
Виталистические воззрения поддерживали и развивали А. Галлер (1708—1777) и И. Блюменбах (1752—1840). По А. Галлеру, каждое проявление функциональной деятельности организма являлось выражением отдельной жизненной силы, но в то же время для развития зародыша такой жизненной силы не нужно, т.к. он изменяется только количественно, но не качественно (преформизм). И. Блюменбах, напротив, создал учение о присущем животному организму врожденном стремлении к определенной форме «согласно предустановленному плану», к сохранения этой формы и восстановлению ее после повреждений и болезней.
Широкое распространение в Европе получило учение австрийского врача Ф. Месмера (1734—1815) о животном магнетизме. Согласно представлениям Месмера, от животного организма исходил особый флюид, воздействуя на который можно было изменять состояние организма, в т.ч. излечивать любое заболевание. Среди последователей Месмера наряду с экспериментаторами были шарлатаны, использовавшие шумную рекламу, созданную модному методу лечения. С виталистическими представлениями немецкого врача С. Ганеманна (1755—1843) о болезни как расстройстве жизненной силы связано возникновение на рубеже 18—19 вв. и развитие гомеопатии.
В 17в наука стала принимать международный характер. Ученые обменивались письмами, сообщали друг другу о своих наблюдениях, открытиях, изобретениях, теориях, оживленно обсуждали их. Один за другим создавались научные центры. Еще во второй половине 16 в. в Италии была основана «Академия опыта». В Англии в 1579 г. открылся Грашен-колледж — учебно-научное учреждение опытно-практического направления, на базе которого в 1660 г. было основано Лондонское королевское общество. В течение 17 в. в Англии создано несколько научных учреждений типа специализированных академий, в т.ч. Королевский колледж врачей и Королевский колледж хирургов. В 1666 г. открыта Парижская академия наук. В течение 18 в. во Франции было организовано большое число различных академий и научных обществ, в т.ч. Академия хирургии (1731). Академии наук открылись и в других странах Европы: Германская академия естествоиспытателей «Леопольдина» (1652), Берлинская (1701), Петербургская (1724). Стокгольмская (1730), Мюнхенская (1759) и другие академии. Французский ученый П. Лаплас (1749—1827) в одном из писем объяснял причины учреждения академий и научных обществ: «В то время как отдельный ученый легко предается догматизированию, столкновение догматических взглядов в ученом обществе ведет к их уничтожению. Желание взаимно убедить друг друга побуждает далее членов такого общества согласиться допускать лишь результаты точных наблюдений и вычислений». В последних словах П. Лапласа выражены две характерные черты науки 17—18 вв. — опора на наблюдение (опыт, эксперимент) и математику. Точность и достоверность стали знаменем новой науки. Ее развитие в 17—18 вв. опиралось, с одной стороны, на изобретение или усовершенствование важнейших научных инструментов и измерительных приборов (термометр, ртутный и водяной барометр, воздушный насос, часы с маятником, микроскоп, телескоп и др.). с другой — на быстрое развитие математики. Но эти же черты определяли и ограниченность науки 17—18 вв., ее чуждость идее развития, преобладающий интерес к количественной стороне явлений в ущерб исследованиям их качественной специфики.
Наибольшее развитие получила физика. В 16—17 вв. Г. Галилей. И. Ньютон (1643—1727) и Г. Гюйгенс (1629—1695) разработали основные положения классической механики Э. Торричелли (1608—1647) изобрел ртутный барометр, открыл атмосферное давление и вакуум. Б. Паскаль (1623—1662) сформулировал основной закон гидростатики. Большие успехи были достигнуты в области оптики. В конце 18 в. создано учение об электричестве.
Передовые врачи уже в начале 17 в. стремились использовать достижения физики в интересах М. Последователь Г. Галилея С. Санторио (1561—1636), которому вместе с его учителем принадлежит честь изобретения ртутного термометра, а также прибора для измерения пульса (сфигмометра), первый применил экспериментально-механические и математические методы в М. Он создал направление, приверженцы которого объясняли все процессы жизнедеятельности на основе законов механики (ятромеханика). Для С. Санторио пищеварение — измельчение пищи, а восприятие химуса происходит вследствие давления сокращающейся кишки: дыхание всецело зависит от механизма движения груди: температура тела поддерживается главным образом благодаря трению крови о стенки сосудов и взаимному трению частиц самой крови. В изобретенной им камере путем многократных и систематических взвешиваний (себя, своей пищи и экскрементов) Санторио пытался количественно оценить степень усвояемости пищи, удаление продуктов ее распада с экскрементами, а также через кожу и легкие. Объяснить полученные результаты и тем более дать оценку процессам обмена веществ С. Санторио не удалось. Он, по-видимому, первый измерил температуру тела человека. На важность термометрии в клинической практике первым, очевидно, указал Дж. Бальиви (1668—1707). Однако систематические измерения температуры тела в медицинских целях ввел Г. Бурхаве (1668—1738) в 20-х гг. 18 в.
Дж. Борелли (1608—1679), которого справедливо считают одним из основоположников биомеханики, первым определил центр тяжести человеческого тела, показал, что при совместном действии мышц и костей кости действуют как физические рычаги, а мышцы — как движущие силы; высказал мысль о зависимости кровяного давления в сосуде не только от площади его поперечного сечения, но и от удаленности от сердца.
Л. Беллини (1643—1703) ввел понятие об эластичности тканей организма, согласно которому ткани, подвергнувшиеся растяжению и сжатию под воздействием какой-либо силы, возвращаются в первоначальное состояние. Он считал, что мышцы состоят из волокон, делящихся на более мелкие, способные к произвольному и непроизвольному сокращению. Крупным, но не последовательным представителем ятромеханики был Дж. Бальиви. Первоначально он рассматривал все процессы жизнедеятельности чисто механически: артерии и вены — гидравлические трубки, сердце — нагнетательный насос, железы — сита и т.п. В дальнейшем он выступил против ограниченности и схематичности ятромеханических представлений об основных функциях организма.
Ограниченность чисто механистических представлений об основах жизнедеятельности организма сознавали и другие врачи конца 17 в. и 18 в., в т.ч. и представители ятромеханического направления. Однако в целом ятромеханическое направление сыграло положительную роль в развитии М. Представители ятромеханики выполнили ряд ценных исследований, из которых наибольшее значение имели работы, относившиеся к экспериментальному изучению различных движений тела и установлению некоторых гидростатических закономерностей. Важнейшей их заслугой является внедрение в физиологию и М. экспериментального подхода, измерений и измерительных приборов. Но на основе механистической логики воздать научные основы физиологии и М. было невозможно. Только в 19—20 вв. было определено место механических исследований в биологии и М., появилась биомеханика, изучавшая механические свойства живых тканей, органов и организма в целом, ставшая важным разделом биофизики и физиологии и одной из теоретических основ физической культуры, травматологии и ортопедии.
Другой формой использования достижений физики в биологии и М. стало микроскопирование. Первый микроскоп был создан в Голландии в 1590 г. братьями Янсенами. В 1665 г. Р. Гук (1635—1703) сконструировал новый микроскоп, позволивший ему увидеть растительную клетку; он впервые ввел понятие клетки. А. Левенгук (1632—1723) с помощью самодельных линз впервые обнаружил и зарисовал сперматозоиды, различные простейшие, детали строения костной ткани. Научное и систематическое применение микроскопии в биологии и М. связано с именами М. Мальпиги (1628—1694), Н. Грю (1641—1712), Р. Граафа (1641—1673) и др. Внедрение и совершенствование микроскопии сыграли определяющую роль в возникновении и развитии микроскопической анатомии, патологической анатомии, эмбриологии, бактериологии.
С развитием учения об электричестве в 18 в. связан новый аспект использования достижений физики в биологии и медицине. В результате почти 20-летних экспериментальных исследований электрических явлений в живых тканях итальянский анатом и физиолог Л. Гальвани (1737—1798) доказал существование так называемого животного электричества и показал, что под действием электрического тока возникает сокращение мышц. Л. Гальвани и А. Вольта (1745—1827) первыми высказали мысль о роли электрических явлений в осуществлении двигательных реакций, в координации и управлении функциями организма. С исследований Л. Гальвани началась новая эпоха в физиологии: в 19—20 вв. на основе достижений электрофизиологии были изучены многие процессы жизнедеятельности, возникли и получили развитие новые высокоэффективные методы диагностики (например, электрокардиография) и лечения. Наконец, с развитием акустики генетически связано изучение клиницистами звуковых феноменов, наблюдаемых при выстукивании и прослушивании тела.
В развитии химии в 17—18 вв. основополагающую роль сыграло возрождение традиций атомистики. Р. Бойль (1627—1691), по праву считающийся одним из. основателей научной химии, сформулировал научное определение химического элемента, ввел в химию экспериментальный метод и положил начало качественному анализу. Затем были открыты двуокись углерода (1754), водород и углекислый газ (1766), определен химический состав воздуха (1781) и воды (1784). Дж. Пристли (1733—1804) открыл кислород (1774) и первый указал, что зеленые растения «исправляют воздух, испорченный дыханием человека и животных». Экспериментально-теоретические работы А. Лавуазье (1743—1794) и М.В. Ломоносова показали роль кислорода в горении и дыхании. Т.о., к концу 18 в. были созданы предпосылки для изучения газообмена, физиологии дыхания и обмена веществ.
В конце 18 в. английские и французские химики во многом способствовали применению открытий в области химии в медицинской практике. Г. Дэви, испытав на себе действие закиси азота (веселящего газа), выделенного в 70-х гг. 18 в. Дж. Пристли, предложил использовать его в хирургии для обезболивания. В 19 в. были обнаружены более эффективные средства для наркоза (эфир, хлороформ), но предложение Г. Дэви проложило путь дальнейшим поискам ингаляционного наркоза.
Многие из ведущих химиков занимались проблемами М. и были одновременно врачами. Напр., К. Бертолле (1748—1822) помимо работ по военной (применение селитры для получения пороха) и технической (беление холста) химии проводил исследования «о природе субстанции животного организма», т.е. в области, получившей позднее наименование «биологическая химия» В этой же области работал Л. Воклен (1763—1829), изучавший химический состав камней в моче и др. Ж. Шапталь исследовал минеральные воды, их химический состав и показания к применению Л. Гитон де Морво усовершенствовал метод обеззараживания, предложил новые обеззараживающие составы. К Бертолле читал лекции по химии врачам в Париже, Ж. Шапталь — в Монпелье. Сближение химии и М. послужило затем основой для организации при лечебных заведениях лабораторий для клинических анализов. В тесной связи с учеными-химиками в годы французской революции работал гигиенист Дж. Галле.
Одновременно продолжало развиваться ятрохимическое направление, близкое к клинической медицине, но допускавшее наряду с рациональным мистическое объяснение процессов жизнедеятельности, особенно в вопросах координации функций организма. Виднейшими представителями ятрохимии были И. Ван-Гельмонт и лейденский физиолог и клиницист Ф. Сильвий (1614—1672). И. Ван-Гельмонт развил учение о ферментах, согласно которому в организме ни одного процесса не происходит без участия ферментов: ферменты находятся повсюду — в крови, моче, желчи, желудке, кишечнике. Суть действия ферментов состоит в превращении веществ в организме из одного в другое. Все жизненные функции организма находятся в зависимости от высшего животного начала — архея. Каждая часть тела имеет собственного архея; их гармоническим взаимодействием обеспечивается целостная направленность процессов ферментации и, следовательно, здоровье. Над совокупностью археев стоит в качестве регулирующего принципа верховный архей, движимый извне Высшим Разумом. Состояние болезни не отличается в своей сущности от состояния здоровья и является исключительно следствием изменения условий, в которые Высший Разум ставит организм в целом или какую-либо его часть. Теория И. Ван-Гельмонта, которую с незначительными оговорками принимали все ятрохимики 17—18 вв., носила механистический и дуалистический характер, игнорировала достижения анатомии и физиологии и, следовательно, не могла объяснить существа процессов жизнедеятельности. Вместе с тем, несмотря на умозрительность представлений И. Ван-Гельмонта о ферментах, идея химической регуляции биологических процессов оказалась продуктивной и способствовала возникновению в 19 в. биохимии. Кроме того, ятрохимикам принадлежит много частных открытий, представляющих интерес для различных разделов клинической медицины. Так, И. Ван-Гельмонт предложил, хотя и мистическое по форме, но верное по сути, объяснение патогенеза лихорадки, которую он рассматривал как выражение борьбы архея против вредящих агентов, т.е. как защитную реакцию.
Несколько иначе представлял себе роль ферментации в норме и патологии Ф. Сильвиус. По его представлениям, под влиянием теплоты тела и «духов жизни» в результате ферментации образуются конечные продукты кислотного или щелочного характера. Правильное качественное и количественное соотношение кислотных и щелочных продуктов — необходимое условие здоровья. Образование вследствие перегрузки кислыми или щелочными веществами (или появления их «в неподходящем месте») соответствующих «едкостей» обусловливает изменения крови, желчи, лимфы, нарушает общий обмен веществ и приводит к болезни. Все болезни, т.о., подразделяются на кислотные и щелочные. Поэтому в соответствии с принципом «противоположное лечи противоположным», при одном типе болезней следует назначать щелочи, при другом — кислоты. При этом большое значение придавалось поддержанию сил, укреплению общего состояния организма на основе тщательного соблюдения диеты, а также возможности удаления из организма «болезнетворной причины». Учение Ф. Сильвиуса получило широкое распространение среди врачей и оказало большое влияние на М. Оно сыграло существенную роль в развитии представлений о кислотно-щелочном равновесии, об алкалозе и ацидозе, о необходимости исследования рН крови, реакции мочи и т.п.
Прогресс в области биологии был менее значительным, чем в физике и химии. Были предприняты работы по систематике флоры и фауны, завершившиеся созданием в 1735 г. «Системы природы» К. Линнея (1707—1778).
Несмотря на работы У. Гарвея (1578—1657), обосновавшего принцип «яйцо есть общее первоначало для всех животных», и М. Мальпиги (1628—1694), подтвердившего правильность основных выводов У. Гарвея, в биологии 17—18 вв. господствовала теория преформизма. Преформистские идеи, которые в 18 в. развивали А. Галлер и Ш. Бонне, были подвергнуты обстоятельной критике Ж. Ламетри и К. Вольфом (1733—1794). В своих работах «Теории зарождения» и «Об образовании кишечника у цыпленка» К. Вольф развил учение о новообразовании частей и органов организма из бесструктурной массы, содержащейся в яйце, положил начало учению о зародышевых листках. Однако лишь в 19 в. теория эпигенеза получила широкое признание: в обосновании ее большую роль сыграли работы русских ученых К.М. Бэра (1792—1876) и X.И. Пандера (1794—1865).
В конце 18 в. в биологии началась разработка идей исторического развития органического мира. Некоторые биологи выступили с критикой теории самозарождения и неизменности видов, появились первые работы по сравнительной анатомии. Ж. Бюффон (1707—1788) выдвинул понятие «естественная история» и идеи о единстве организации живых существ, о «непрерывной иерархии от самого низшего растения до самого высокоорганизованного животного», изменяемости форм под влиянием внешних условий. Однако лишь в начале 19 в. Ж. Ламарком (1744—1829) была сформулирована первая целостная эволюционная теория.
Одним из крупнейших достижений естествознания 17 в. стало открытие У. Гарвеем кровообращения. В 1628 г. вышла в свет его знаменитая книга «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных» с изложением учения о кровообращении, основные положения которого были им высказаны еще в 1605 г. Единственным недостатком теории У. Гарвея было отсутствие данных о том, как сообщаются артерии с венами; он не знал о существовании капилляров и полагал, что кровь переходит из артерий в вены по анастомозам или порам тканей. Этот пробел был вскоре устранен М. Мальпиги, наблюдавшим под микроскопом движение крови по капиллярам. Оценивая открытие кровообращения как основополагающее для развития физиологии. И П. Павлов отмечал, что главная заслуга У. Гарвея заключается не в самом описании кровообращения, а в ее экспериментальном доказательстве: «... Гарвей выдвинулся своей мыслью над сотней других, и часто немалых, голов в значительной степени благодаря тому, что главным образом имел дело не с трупами... а с живыми организмами..., что он вивисецировал».
В 17—18 вв. были сделаны важные открытия в области анатомии. Англичанин Р. Лоуэр подробно описал (1664) мускулатуру сердца и подверг сомнению утверждение Р. Декарта о том, что причиной заболеваний сердца является так называемое вскипание крови. Р. Лоуэр считал, что сердечная мышца подвержена различным влияниям: со стороны крови — благодаря собственному (венечному) кровообращению: нервному — из-за связи с блуждающим и симпатическим нервами. Лоуэр первый экспериментально установил замедляющее влияние блуждающею нерва на сокращения сердца. М. Мальпиги изучил микроскопическую структуру легочных альвеол, кожи, печени, селезенки и почек. Ученик М. Мальпиги А. Вальсальва (1666—1723) известен своими работами по анатомии, физиологии и патологии органа слуха. Н. Гаймор (1613—1685) принадлежат фундаментальные исследования по анатомии мужских половых органов и придаточных пазух носа. Р. Граафу — по анатомии и физиологии женских половых органов. Т. Виллизий (1621—1675) описал строение мозга, в частности его сосудистую систему, и добавочный нерв, носивший его имя, как клиницист он изучал заболевания, связанные с поражением нервной системы.
Крупные успехи в области анатомо-физиологических знаний в 18 в. связаны с деятельностью А. Галлера (1708—1777) и И. Прохаски (1744—1820). А. Галлер экспериментальным путем доказал, что мышечная ткань отвечает сокращением на любые раздражения, что нервы являются проводниками раздражения и носителями чувствительности в организме. Он высказал предположение, что сокращения сердца зависят от «неизвестной причины, лежащей в самом строении сердца». А. Галлер выпустил два крупных обобщающих труда (1747, 1757). являющихся по существу первыми руководствами и справочными пособиями по физиологии. В 1779 г. вышел в свет труд И. Прохаски «О структуре нервов», где было дано описание нервной системы, а также указано функциональное значение морфологического различия между передними и задними корешками спинномозговых нервов. В своем «Трактате о функциях нервной системы» И. Прохаска развил представление о нервном рефлексе, о рефлекторной дуге, особенно подчеркнув значение нервов как посредников между окружающей средой и организмом, Нервную систему И. Прохаска рассматривал как носителя единства организма: «У животных высшей организации при множестве и различии органов находится нервная система, «до действия всех органов стекаются воедино». Написанный И. Прохаской учебник «Физиология, или наука о естестве человеческом» был переведен на другие языки, в т.ч. на русский.
В середине 18 в. зародилась новая отрасль М. — патологическая анатомия. Первыми патологоанатомическими работами принято считать исследования Ш. Бонне и И. Вепфера. В 1679 г. вышла в свет первая книга Бонне «Морг, или практическая анатомия на основании вскрытий трупов больных». Последователем Ш. Бонне и И. Вепфера был А. Вальсальва. Ученик А. Вальсальвы Дж. Морганьи (1682—1773) — профессор практической медицины Падуанского университета подвел итоги наблюдениям своих предшественников и собственному опыту в капитальном труде «О местонахождении и причинах болезней, обнаруженных путем рассечения» (1761). В предисловии Дж. Морганьи пишет: «Огромное количество протоколов вскрытий погибших от болезней, будучи разрозненным, не приносит пользы. Будучи же собранным и расположенным в определенном порядке, образуя одно целое, оно может принести пользу величайшую». Особенно ценно, что Дж. Морганьи сам был лечащим врачом: в своем труде он приводил не только протоколы вскрытий, но и свои наблюдения над больными при их жизни. Т.о., его труд заложил основы клинико-анатомического направления в медицине. Дж. Морганьи считал, что каждая болезнь гнездится в определенном месте тела и вызывает определенные материальные изменения в том или ином органе; вскрытие позволяет точно установить эти изменения и тем самым определить болезнь. Этот локалистический принцип сыграл огромную положительную роль: патологическая анатомия подвела под расплывчатое до этого понятие болезни прочную основу, дала ей материальный субстрат. Развитие патологической анатомии явилось сильным ударом по метафизическим, виталистическим теориям в М. На основе ее достижений появилась возможность постановки не гадательного, а обоснованного диагноза. В связи с развитием патологической анатомии в дальнейшем выделилась новая врачебная специальность — прозекторская служба, имевшая большое значение для улучшения лечебного дела.
Стоит отметить, что в России еще в первой половине 18 в., когда были созданы первые госпитали, практиковалось вскрытие умерших и в госпиталях в зародыше существовала прозекторская служба. Эта прогрессивная черта русской медицины 18 в. нашла выражение в «Генеральном регламенте о госпиталях», изданном в 1735 г.
Значительный этап в развитии анатомических знаний после Дж. Морганьи, и также в изучении жизненных явлений в целостном организме при нормальном и патологическом состояниях на рубеже 18—19 вв. связан с деятельностью М. Виша (1771—1802). В трудах «Общая анатомия и приложении к физиологии и медицине» (1801) и «Трактат о мембранах и оболочках» (1800) он изложил учение о тканях организма, детально описав выделенную им 21 ткань и свойства каждой из них. В «Физиологических рассуждениях о жизни и смерти» (1800) нашли выражение общие взгляды М. Биша по вопросам биологии и патологии. М. Биша значительно укрепил своими исследованиями основы морфологии и физиологии. Он считал невозможным изучать явления живой природы на основе одних физических и химических законов: «Наука об органических телах должна употреблять совершенно иные приемы, нежели наука о телах неорганических». Взгляды М. Биша оказали прямое влияние на деятельность школы Ж. Корвизара (1755—1821), сыгравшей исключительную роль в развитии клинической медицины в первой половине 19 в.
Выдающееся достижение медицины 17 в. — открытие У. Гарвеем кровообращения, послужившее началом современной физиологии и современного учения о патологии сердечно-сосудистой системы, — не оказало реального влияния на практическую М. ни в 17в., ни в 18 в.: слишком велик был разрыв между опытно-экспериментальными методами и мышлением натуралистов, с одной стороны, и методами обследования больного и врачебным мышлением — с другой. Не случайно и сам У. Гарвей, получивший признание современников как ученый-анатом, не пользовался славой хорошего терапевта, ибо занимался врачеванием в тот период истории М., когда ее научную основу составляли хаотически нагроможденные эмпирические данные и различные умозрительные, но претендующие на всеобъемлющее значение «системы».
Основополагающий вклад в развитие клинической М. принадлежит лондонскому врачу Т. Сиденгаму (1624—1689). Отрицая и схоластическое наследие средневековой М., и механистические крайности ятрофизики, Т. Сиденгам рассматривал болезнь как процесс, как «усилие природы восстановить здоровье путем удаления внедрившегося болезнетворного начала» и стремился познать целительные возможности организма больного». Разработанная Т. Сиденгамом система практической М., основанная на врачебном наблюдении у постели больного, оказала серьезное влияние на большинство врачей второй половины 17 — начала 18 в.
Профессор Лейденского университета Г. Бурхаве (1668—1738) создал клиническую школу в современном понимании, сыгравшую исключительную роль в развитии европейской М. Для этой школы были характерны тщательное обследование больного с применением термометрии, подробная запись истории болезни, примат клинической практики над теорией, преподавание у постели больного.
Учениками Г. Бурхаве были А. Галлер, Ж. Ламетри, Г. Ван-Свитен (1700—1772) и А. де Гаен; оба последних стали основателями так называемой старой венской школы (вторая половина 18 в,), закрепившей преподавание у постели больного и усвоившей позицию Г. Бурхаве в отношении задач клинической медицины: «Клинической называется медицина, которая наблюдает больных у их ложа... Прежде всего нужно посетить и видеть больного». Питомец «старой венской школы» Л. Ауэнбруггер (1722—1809) опубликовал в 1761 г. труд о новом методе исследования — перкуссии; это открытие настолько опередило свое время, что было осмеяно и отвергнуто медицинским факультетом во главе с Г. Ван-Свитеном, и только в начале 19 в. Ж. Корвизар ввел перкуссию во врачебную практику.
Важнейшей проблемой медицины 17—18 вв. были инфекционные болезни — сыпной тиф, кишечные инфекции, малярия, оспа, детские инфекции и др., именно они определяли картину заболеваемости и смертности. Видную роль в развитии учения о заразных болезнях сыграла английская школа клиницистов во главе с Дж. Гунтером (1728—1793) — врачом и естествоиспытателем, одним из основоположников экспериментальной патологии (его имя носит Биологический музей в Лондоне, возникший на базе собранной им коллекции сравнительно-анатомических препаратов). Ученик Дж. Гунтера Э. Дженнер (1749—1823) на основе 20-летних наблюдений, многочисленных экспериментов на животных и проведенного в 1796 г. опыта на человеке предложил (1798) для борьбы с оспой прививку коровьей оспы вместо применявшейся в 18 в. вариоляции, чем положил начало современному оспопрививанию. Но лишь после громадных усилий передовых врачей разных стран, в частности русских, оспопрививание пробило себе дорогу. Современником Э. Дженнера был русский врач Д.С. Самойлович (1744—1805) — автор классических работ по чуме. Значение деятельности этих двух врачей выходит за рамки учения о тех конкретных болезнях, которым посвящены их исследования, оно касается изучения инфекционных болезней в целом, развития рациональных представлений об их сущности и утверждения возможности успешной борьбы с ними.
Одновременно были проведены основополагающие исследования в области болезней сердца. В. Геберден (1710—1801) дал классическое описание основных признаков грудной жабы (стенокардии) и выделил ее как клиническую форму (1768). Э. Дженнер и другой ученик Дж. Гунтера К. Парри установили патогенетическую роль поражения коронарных артерий в развитии грудной жабы. Так были заложены основы учения об ишемической бодри и сердца. Обобщение разрозненных данных о различных поражениях сердца и связь их с течением отдельных заболеваний позволили сформироваться вместо традиционных представлений о защищенности сердца от болезнетворных воздействий новому взгляду, согласно которому сердце, как и любой другой орган человеческого тела, подвержено болезням.
В конце 18 в. Д. Питкерн обнаружил, что лица, перенесшие острый суставный ревматизм, чаще страдали поражениями сердца, и ввел название «сердечный ревматизм». Во Франции и Италии среди многочисленных разрозненных клинических и анатомических описаний поражений сердца выделяются работы Р. Вьессана (1641—1715), который в конце 17 — начале 18 в. указал на особенности пульса при недостаточности клапанов аорты и признаки застоя крови в легких при митральном стенозе; Дж. Ланчизи (1654—1720), выяснившего значение набухания шейных вен как симптома сердечной недостаточности и сифилиса как причины аневризмы аорты (первая треть 18 в.). При этом было установлено, что даже значительные анатомические изменения сердца и сосудов могут быть совместимы с жизнью. В 1749 г. вышел первый учебник анатомии, физиологии и патологии сердца, написанный французским врачом Ж. Сенаком (1693—1770), но и он не дал целостного освещения проблемы болезней сердца. В силу разрозненности накопленных научных данных отсутствовали условия для обобщающего труда; такой труд был создан Ж. Корвизаром в 19 в.
При полном хаосе в вопросах лечения в 17—18 вв., когда применение в роли панацеи нарывного пластыря как стимулирующего средства или кровопусканий, слабительных и т.д. уживалось с полипрагмазией, все же произошло обогащение арсенала лекарственных средств: к старой галеновой фармакопее были добавлены кора хинного дерева, вывезенная из Южной Америки и использованная для лечения малярии (наряду с применением в 16 в. ртути для лечения сифилиса это было истоком эмпирической химиотерапии); ипекакуана, или рвотный корень, также заимствованный у индейской медицины Нового Света; чай (китайский напиток) и аравийский кофе, которые применялись не только как тонизирующие средства, но даже для лечения чахотки. В 17 в. были осуществлены первые попытки внутривенных вливаний лекарственных средств и переливания крови (в Италии, Франции и других странах). Не имея научной основы, они, как правило, не приводили к успеху и нередко кончались гибелью больного, что послужило причиной осуждения этих методов и наложенного на них религиозными и гражданскими законами запрета. В 18 в. в качестве лечебного средства стали использовать белладонну, были открыты новые лечебные свойства наперстянки, которую ранее назначали как рвотное средство. После выхода классического труда английского ботаника и врача У. Уитеринга (1741—1799) «Сообщение о наперстянке, о некоторых терапевтических сторонах ее действия» (1785) наперстянку стали применять как эффективное средство при отеках. В 19 в. было установлено, что действие наперстянки в основном не мочегонное, а сердечное, и она была признана, по словам С.П. Боткина, «одним из самых драгоценных средств, какими обладает терапия».
Конец 18 в. ознаменовался реформой в организации помощи психически больным. Ф. Пинель (1745—1826) — главный врач приюта и больницы для престарелых, инвалидов и душевнобольных близ Парижа в 1793 г. получил разрешение Конвента на проведение такой реформы, обосновал ее теоретически и осуществил на практике: были отменены бытовавшие методы насилия (цепи, наручники, голод, избиения), введены больничный режим, врачебные обходы, лечебные процедуры, трудотерапия. Эти принципы содержания психически больных в 19 в. были приняты повсеместно и явились необходимым условием формирования психиатрии.
Успехи хирургии, основа которых была заложена в 19 в. работами А. Паре, нашли отражение в изменении образования, научной подготовки и положения хирургов. Взамен прежнего, восходившего к традициям средних веков ремесленно-цехового обучения в Париже была начата подготовка хирургов в школе при братстве св. Козьмы, а затем было создано (1731) высшее учебное заведение — Хирургическая академия. В 1743 г. Хирургическая академия была приравнена в правах к медицинскому факультету университета. Но по научному знанию она скоро переросла его: на местах создавались филиалы, приобретая членов-корреспондентов, развивалась научная хирургическая деятельность в различных районах страны. В основу подготовки врача-хирурга были положены клиническое обучение (в хирургической клинике, которой прежде не существовало) и изучение хирургической анатомии. Эти важнейшие для последующего развития хирургии преобразования связаны с именами выдающихся франццзских хирургов 18 в. Ф. Ла Пейрони (1678—1747). Ж. Пти (1674—1750) и П. Дезо (1744—1795). Успехи хирургии делают понятным следующий исторический факт: когда французская буржуазная революция упразднила вместе с другими институтами прошлого Королевскую академию наук и старые схоластические университеты как «очаги реакции и пустословия» (постановление Конвента, сентябрь 1793 г.), именно Хирургическая академия и ее филиалы оказались центром образования новых медицинских школ.
Одновременно с хирургией быстро развивалось тесно связанное с ней акушерство. Этому способствовало то обстоятельство, что начиная с 17 в. родовспоможением стали заниматься наряду с повивальными бабками врачи-акушеры. На рубеже 17—18 вв. Г. Девентер (1651—1724) разработал учение о костном тазе. Тогда же появился труд французского акушера Ф. Морисо «О болезнях беременных и рожениц» (1668), переведенный на ряд языков. На рубеже 18—19 вв. выделялась деятельность его соотечественника Ж. Боделока (1746—1810), с именем которого связаны не только дальнейшее развитие учения об акушерском тазе, но и важнейшая для родовспоможения организационная мера — выведение родильных отделений из общих больниц в специальные родильные дома.
Ранняя стадия капитализма (появление мануфактур, постепенный рост и укрепление мануфактур, постепенный рост и укрепление ручного производства вместо средневекового раздробленного мелкого ремесла) требовала количественного роста и концентрации рабочей силы. Однако различные эпидемии, голод приводили к росту смертности. Значительная убыль населения стала хозяйственной катастрофой. Возникла потребность в организации хотя бы приблизительного учета смертности населения. В этих условиях появились «бюллетени смертности» — сначала в Лондоне, где они были заведены, по одним данным, с 1527 г., по другим —с 1517 г. В Британском музее сохранилась таблица 1532 г. с данными смертности от «чумы». Сведения о смерти и ее причинах, необходимые для выпуска этих бюллетеней, собирались «сыщиками», как правило, старыми женщинами, негодными для другой работы; часто эти собиратели сведений были «лицами подозрительного, дурного поведения», подкупными и невежественными. Естественно, что полученные таким образом сведения и составлявшиеся на их основе бюллетени не могли быть достоверными и точными. Однако сам факт попытки учета, хранения и сопоставления по годам данных о смертности населения и начала классификации, хотя и весьма примитивной, причин смерти — явление большой важности.
Рождение научной демографической статистики можно датировать 1662 г., когда в Лондоне была опубликована книга Дж. Граунта «Естественные и политические наблюдения, сделанные над бюллетенями смертности, по отношению к управлению, религии, торговле, росту, воздуху, болезням... и разным изменениям в означенном городе» (Лондоне). Дж. Граунт отметил, что из бюллетеней смертности «необходимо получить и можно получить интересные сведения о растущих и слабеющих болезнях, о различиях между воздухом города и села (т.е. о болезнях в городе и на селе), о различиях между временами года (сезонами) в отношении здоровья и болезней населения, в отношении его плодовитости».
Разрозненные бюллетени, как и их неполные сводки, не давали достаточно достоверных данных о движении населения, о причинах болезней, смерти и влиянии их на производственный потенциал государства. Необходимы были определенная система сбора сведений и создание специальных учреждений для их обработки и анализа. Эту задачу поставил У. Петти (1623—1687). В 1683 г. он опубликовал труд «Политическая арифметика». «Редкое население, — писал в нем У. Петти, — подлинный источник бедности: страна, имеющая восемь миллионов жителей, более чем вдвое богаче страны, где на такой же территории проживает четыре миллиона». Как государственный деятель и к тому же врач по образованию У. Петти интересовался числом, состоянием и использованием больниц и приютов-изоляторов, числом врачей и хирургов, влиянием эпидемий на убыль населения и т.д.
Если Дж. Граунт, изучая бюллетени смертности, различал смертность в городах и сельских местностях, смертность по разным временам года, по полу, то У. Петти пошел дальше в дифференциации причин смерти — он предлагал устанавливать, когда это возможно, род занятий умерших. Это явилось уже приближением к изучению заболеваний и смерти в зависимости от профессии. Он поставил перед «политической арифметикой» задачу проверки используемых цифр, обеспечение их достоверности. «Нет ничего более убедительного, чем число, мера и вес, если только они правильны», — писал он. У. Петти установил «стандарт здоровья» на основании соотношения числа крещенных и погребенных в Лондоне и Дублине, дал сравнительную оценку «богатства населения» Лондона и Парижа.
В политической экономии, возникшей одновременно с «политической арифметикой», оформились классические системы: меркантилистов, искавших первоисточник богатств в торговом обмене, в деньгах, в драгоценностях; физиократов, видевших этот первоисточник в производстве — сельскохозяйственном и мануфактурном; камералистов. Последняя система представляет интерес в плане решения вопросов общественного здоровья. Возникшая первоначально (к концу средневековья) для обслуживания хозяйственных интересов монархов, крупных феодалов, она в дальнейшем благодаря И. Франку (1745—1821) — австрийскому клиницисту, гигиенисту и реформатору медицинского образования, автору девятитомного труда «Полная система медицинской полиции» (1799—1819) и другим передовым ученым-медикам приобрела иное направление. «Первоисточник богатства страны — в многочисленном и здоровом населении, в здоровых рабочих руках, в производительной силе здорового человека, в систематически проводимых государством мероприятиях по медицинской полиции», — писал И. Франк.
Характерным проявлением развития капитализма стало повышение интереса к вопросам гигиены труда и профессиональной патологии. В 1700 г. вышел труд итальянского врача Б. Рамаццини (1633—1714) «О болезнях ремесленников», в котором была сделана попытка систематически изложить условия труда во всех сферах деятельности, включая умственный труд, пение, спорт, работу кормилиц, могильщиков, ассенизаторов, аптекарей, а также солдат и охотников. В основе труда Б. Рамаццини лежал его богатый опыт клинициста и городского врача. Не довольствуясь этим, он счел необходимым «... посещать самые неприглядные мастерские..., которые в этом отношении являются школами, где можно изучить, как возникают различные болезни». Он использовал также много литературных источников (итальянских, немецких, французских, голландских, английских, датских, испанских). Книга Б. Рамаццини отразила особенности условий труда и связанных с ними заболеваний не только на его родине в Италии, но и за ее пределами, в передовых промышленных странах Европы. Она предопределила направление последующих работ по патологии и гигиене труда в ряде стран. От клиники, от наблюдения и лечения болезней Б. Рамаццини пришел к ознакомлению с обстановкой и условиями труда, к предложениям по улучшению этих условий. Его метод, обогащенный новыми фактическими данными, новыми средствами наблюдения и исследования, послужил основой для возникновения и развития новой науки — гигиены труда.
В Англии — передорой капиталистической стране 18 в. — возрос интерес к вопросам предупреждения болезней. Армия и флот, новый промышленный город, фабрика дали заказ английской М., ее деятельность явственно направлялась характером классовой борьбы — взаимоотношением сил промышленного капитала, земельной аристократии, рабочих.
В области военной гигиены новую школу создал Дж. Прингл (1707—1782). Он не только обратил внимание на значение гнилостных процессов в возникновении болезней, но и сделал практические выводы как в области военно-госпитального дела, так и в обслуживании армии в походе. Он первый установил тождество между так называемой тюремной горячкой, или тифом, и больничной горячкой. Дж. Прингл — основоположник руководящих принципов гигиены военного лагеря, которые повлекли за собой осушку болот путем естественного дренажа или с помощью соответствующих искусственных устройств. Под его влиянием установилось правило, что военные госпитали должны считаться нейтральными и находиться под защитой обеих воюющих сторон. Такую же роль сыграл Дж. Линд (1716—1794) в области морской гигиены и охраны здоровья моряков, В 1753 г. он опубликовал работу о цинге, где показал, что в целях ее предупреждения огромное значение имеет включение в матросский рацион свежих овощей или, в случае отсутствия их, лимонного сока. Он поставил вопросы об обеспечении судов свежей водой и об очистке воды, разработал и ввел правила предохранения экипажей от занесения тифа, а также целый ряд нововведений в области морской гигиены. Его труд «Наиболее успешные опыты сохранения здоровья моряков» (1757) является классическим в этой области медицины. Дж. Линд — автор исследования о заболеваниях европейцев в жарком климате, послужившего началом изучения вопросов тропической медицины.
Принципы Дж. Прингла и Дж. Линда использовал Т. Персиваль (1740—1804) в своих разработках по оздоровлению состояния городов. Если раньше эмпирическая гигиена касалась почти исключительно вопросов личной гигиены и в самых общих чертах — выбора места для жилья, качества воды и др., то в начале 19 в. начались санитарные обследования, которые в связи с учетом характера заболеваемости, движения населения и причин смертности дали материал для научной гигиены.
Одновременно с началом промышленного переворота в Англии происходила буржуазная революция во Франции, влияние которой сказалось на всех странах Европы, а также за ее пределами. В годы французской революции была выдвинута программа медицинских преобразований, непосредственно вытекавшая из общих ее задач. Вошли в жизнь характерные термины — «политическая медицина», «врач-политик». Передовые врачи стремились осуществить программу медицинских преобразований, медицинской помощи на селе, гигиенических мероприятий. В законопроекте, внесенном 12 сентября 1790 г. в Национальное собрание от имени врачей, говорилось: «Науки и искусства у свободного народа не могут быть теми же, что у народа-раба. Медицина, столь необходимая для граждан, столь существенно влияющая на их здоровье и жизнь, должна быть коренным образом обновлена революцией...» (следовал перечень отраслей, подлежащих в первую очередь обновлению). В еще большей степени эта общественная сторона М. находила свое отражение в выступлениях депутатов Национального собрания и позднее в постановлениях Конвента в период якобинской диктатуры. Примером может служить законопроект, внесенный в июле 1794 г., о медицинской помощи на селе. В нем определялись численность медиков (так называемых хирургов, фактически фельдшеров) в сельских местностях Франции, порядок их назначения, содержание «аптечных ящиков», комплектуемых в центре и рассылаемых по селам и др. В связи с термидорианским переворотом это решение осталось нереализованным, как и многие другие начинания якобинской диктатуры. По мере вовлечения во французскую революцию масс, выдвигавших социальные, антифеодальные требования, росли и требования по улучшению условий жизни, в т.ч. санитарных условий медицинской помощи.
17—18 вв. — время создания нового естествознания, период становления научной физиологии, клинической и профилактической М. Выдающиеся достижения естественнонаучной и медицинской мысли Нового времени послужили фундаментом для развития медицины в 19—20 вв.
Медицина 19 века
19 в. характеризовался бурным прогрессом общественного развития, достижениями во всех областях человеческого знания. В ряде европейских государств была создана база для проведения научных исследований в области М., возникли широкие возможности для обмена научной информацией благодаря организации медицинских обществ и развитию медицинской периодической печати, проведены реформы медицинского образования, медико-санитарного дела, организации научных исследований.
Во Франции в 1793 г. декретом якобинского Конвента были закрыты все прежние ученые общества, в т.ч. Парижская академия наук, как далекие от запросов жизни. В том же году начинаются коренная реорганизация старых и создание новых учреждений. Королевский ботанический сад был реорганизован в Национальный музей естественной истории с шестью кафедрами. В декрете перед музеем была поставлена задача проведения исследований в области естественных наук во всем их объеме и особенно в их приложении к агрономии, торговле и промышленности. Кафедру зоологии возглавил Ж. Ламарк, бывший уже к тому времени крупным ботаником и принимавший деятельное участие в преобразовании Ботанического сада. Вместо старых академий был основан Национальный институт наук и искусств, который должен был «совершенствовать науки и искусства путем непрерывных изысканий, опубликовывать открытия, сноситься с отечественными и иностранными учеными обществами, а также руководить научными и литературными работами, направленными к общей пользе и славе республики». В институте был собран цвет французской науки во главе с П. Лапласом (1749—1827), по настоянию которого в него вошли в врачи. В ответ на возражения, что М. не наука, Лаплас отвечал, что, когда врачи будут вращаться среди ученых и работать совместно с ними, то и М. станет наукой. В 1791 г. Национальное собрание Франции создало Больничную комиссию, в результате работы которой была реформирована и улучшена старинная больница Hutel-Dieu, ставшая базой для работ М. Биша (1771—1802). Долгое время во главе ее хирургического отделения стоял Г. Дюпюитрен (1777—1835). Больничная комиссия поддержала также предложения Ф. Пинеля (1745—1826), по плану которого была произведена коренная реорганизация больничных заведений для умалишенных в Бисетре и Сальпетриере, что явилось поворотным пунктом в развитии психиатрии.
В 1794 г. медицинские школы в Париже, Монпелье и Страсбурге были реорганизованы в Ecoles de sante, ведущее место в преподавании заняли анатомия и хирургия. В Ecole de sante была создана кафедра гигиены во главе с Ж. Галле (1754—1822), а кафедрой акушерства заведовал Ж. Боделок (1746—1810), одновременно поставленный во главе созданной якобинским Конвентом акушерской больницы Матерните для помощи беременным и роженицам.
Единственным учреждением, не затронутым реорганизацией, был College de France — старинный институт, созданный во Франции еще в 16 в. и являвшийся своеобразной свободной школой, слушатели которой не получали никаких дипломов, никаких прав, а шли в институт с единственной целью учиться у новаторов в различных областях науки. С начала 19 в. в College de France читали лекции такие выдающиеся ученые-новаторы, как Ж. Корвизар (1755—1821), P. Лаэннек (1781—1826), Ф. Мажанди (1783—1855) и др. В 1803 г. в Париже были организованы Анатомическое и Фармацевтическое общества, в 1820 г. как совещательный орган по вопросам М. — Медицинская академия общественной гигиены при правительстве. На нее возлагалась также задача содействовать развитию медицинских наук, ветеринарии и фармации. В состав академии входили секции анатомии и физиологии, медицинской патологии, хирургической патологии, терапии, оперативной медицины, патологической анатомии, акушерства, общественной гигиены, судебной медицины и медицинской полиции, ветеринарии, медицинской физики и химии, фармации.
Одновременно, но не без влияния французской науки развивалась М. и в других европейских странах. В 1805 г. в Лондоне возникло Медико-хирургическое общество; появились Общество соревнования врачебных и физических наук при Московском университете (1804), затем Шведское медицинское общество. По инициативе К. Рокитанского (1804—1878) было организовано Врачебное общество в Вене (1837), в работе которого участвовали И. Шкода (1805—1881), Ф. Гебра (1816—1880), И. Дитль (1804—1878) и другие виднейшие врачи Вены. Развитие М. обусловило появление отдельных медицинских специальностей и создание соответствующих специальных врачебных обществ, сыгравших значительную роль в развитии мировой науки. В Англии были созданы Общество патологов (1846), Эпидемиологическое общество (1850), Акушерско-гинекологическое общество (1852). Первое медицинское общество по узкой специальности — Балтиморское одонтологическое общество (1840) — возникло в США.
В 1823 г. начал издаваться журнал «Lancet», получивший с течением времени мировое распространение. В издававшихся Французской медицинской академией «Трудах» печатались работы Ф. Мажазди, К. Бернара и Л. Пастера. Ф. Пинель издавал «Gazette de santé» (с 1784 г.). Резко увеличилось число издаваемых во Франции медицинских журналов между революциями 1830 и 1848 гг., когда многие периодические издания, особенно руководимый врачом Ж. Гереном (1801—1886) журнал «Gazette medicale de Paris» (с 1830 г.), стали уделять большое внимание вопросам общественной медицины.
Начиная с середины 19 в. ведущая роль перешла к немецким медицинским журналам. В 1847 г. в Вюрцбурге начал издаваться «Archiv für pathologische Anatomie und Physiologic und für klinische Medizin», получивший впоследствии название «Virhow's Archiv». На страницах этого журнала публиковались выдающиеся работы врачей всего мира, в т.ч. многие работы русских врачей. Не меньшее значение имел издававшийся с 1834 г. журнал «Archiv für Anatomie, Physiologic und wissenschaftliche Medizin», основанный И, Мюллером (1801—1858). После смерти И. Мюллера журнал редактировал Э. Дюбуа-Реймон; с 1877 г. журнал стал называться «Archiv für Physiologic». В 1868 г. Э. Пфлюгером начал издаваться «Archiv für die gezamte Physiologic des Menschen und der Tiere», названный впоследствии «Pflüger's Archiv».
В 19 в. состоялось первое международное собрание врачей — съезд гигиенистов в Брюсселе (1852). Международные медицинские съезды врачей проходили в Париже с 1867 г., причем уже на первом присутствовали и с успехом выступали русские врачи.
В последней трети 18 в. начали создаваться бактериологические медицинские учреждения и журналы. В 1875 г. вышел «Deutsche medizinische Wochenschrift». который с 80-х гг. стал трибуной Р. Коха (1843—1910) и его учеников. В том же году при имперском управлении здравоохранения в Берлине создана специальная лаборатория Р. Коха. Небольшая лаборатория Л. Пастера (1822—1895) в Париже издавала ставший затем самым авторитетным в бактериологии журнал «Annales de I'lnstitut Pasteur» (1887). В 1888 г. на средства, собранные по международной подписке, был открыт Пастеровский институт, в котором работали Э. Ру (1853—1933), И.И. Мечников (1845—1916), Ж. Борде (1870—1961) и другие выдающиеся микробиологи. Этот институт до настоящего времени является одним из крупнейших в мире центров научных исследований в области бактериологии, иммунологии, вирусологии и генетики. В 1890 г. в Петербурге на базе Пастеровской станции был создан институт экспериментальной медицины, в котором работали И.П. Павлов (1849—1936), С.Н. Виноградский (1856—1953), Е.С. Лондон (1868—1939) и другие выдающиеся русские ученые. В этом институте, открытом с целью изучения заразных болезней и выработки мер борьбы с ними, кроме бактериологических исследований выполнялась широкая программа исследований в области теоретической М., прежде всего физиологии. В 1891 г. открылись Институт инфекционных болезней им. Р. Коха в Берлине и Институт профилактической медицины им. Листера в Лондоне.
Отказавшись от чисто механистической картины мира, естествознание 19 в. стремилось к обоснованию идей всеобщей взаимосвязи явлений природы и их эволюции; характерны внедрение экспериментальных методов во все области естествознания, взаимопроникновение идей и методов исследования. Возникали и решались новые сложнейшие теоретические проблемы, появились новые области естествознания, шла последовательная дифференциация отдельных областей знаний, формировались все более узкие специальные отрасли и одновременно происходила их своеобразная интеграция, когда ранее обособленно развивавшиеся науки связывались между собой пограничными дисциплинами (например, физическая химия развивалась на границе физики и химии, биологическая химия — на границе химии и биологии и др.). Выполненные в 19 в. фундаментальные исследования в области физики, химии и биологии определили новую научную картину мира. Результаты этих исследований послужили естественнонаучной базой для развития экспериментально и теоретически обоснованных представлений о процессах жизнедеятельности и их изменениях при патологических состояниях, о причинах возникновения и механизмах развития различных болезней, научно обоснованных методах диагностики, лечения и профилактики.
Одним из наиболее выдающихся достижений естествознания 19 в. было открытие закона сохранения и превращения энергии. Этот закон впервые показал взаимосвязь ранее как бы независимо существовавших в сознании человека природных явлений (механической работы, теплоты, электричества, химических процессов), объединив их общим понятием «энергия» (способность совершать работу). Благодаря работам Р. Майера (1814—1878), Дж. Джоуля (1821—1889) и Г. Гельмгольца (1821—1894) закон сохранения и превращения энергии, как и сформулированные в 50—60-х гг. 19 в. принципы термодинамики, послужил развитию физиологии и нашел широкое применение в М. для изучения процессов обмена веществ и энергии, в частности газообмена, энергопотребностей и энерготрат организма. И.М. Сеченов (1829—1905), используя методы физической химии и математики, изучал динамику процесса дыхания и установил количественные законы растворимости газов крови. Экспериментальное изучение газообмена (в частности, изменения его интенсивности при мышечной работе) продолжили его ученики. Были разработаны методы прямой и непрямой калориметрии, позволившие точно измерить количество энергии, заключенной в различных пищевых веществах, а также освобождаемой организмом животных и человека в покое и при работе. Принципиальное значение имели работы А.А. Лихачева (1866—1942), установившего совпадение результатов прямой калориметрии и исследования газообмена (непрямая калориметрия), что было позднее подтверждено в США Ф. Бенедиктом (1894) и в Германии — М. Рубнером (1894). Немецкие ученые Э. Пфлюгер (1829—1910), К. Фойт (1831—1908) и М. Петтенкофер (1818—1901), изучая газообмен и обмен азотистых и безазотистых веществ животного организма, доказали, что при длительном голодании более важные для организма органы восполняют свои затраты за счет менее важных и что большая часть энергии в организме (85—90%) образуется за счет жиров и углеводов и только 10—15% — за счет белка. На основании опытов и статистического изучения питания в общественных столовых К. Фойт установил гигиенические нормы питания, получившие широкое распространение.
Немецкий физиолог и гигиенист М. Рубнер (1854—1932) завершил работы А. Лавуазье (1743—1794) и П. Лапласа по химической трактовке дыхания животных как химического процесса; ввел количественные показатели процессов обмена веществ в животном организме; сформулировал закон изодинамии пищевых веществ, учитывающий их энергетическую оценку. Разрабатывая проблему теплообразования и теплоотдачи человеческого организма, он научно обосновал гигиенические требования к одежде.
Выполненные в 19 в. экспериментальные исследования обмена веществ заложили основу учения о газообмене, физиологии и гигиены питания, биоэнергетики, которые получили развитие в 20 в.
Количественное изучение электрических и магнитных явлений с использованием специально сконструированных для этих целей измерительных приборов позволило установить основные закономерности взаимодействия электрических зарядов, электрического тока и электрического поля, электромеханических и электротермических эффектов, взаимосвязь между электричеством и магнетизмом. В 1791 г. итальянский анатом и физиолог Л. Гальвани (1737—1798) создал теорию так называемого животного электричества. Итальянский физик и физиолог А. Вольта (1745—1827) изобрел электрометр, конденсатор, электроскоп, а в 1800 г. — источник электрического тока — гальванический элемент (так называемый вольтов столб). Он обнаружил (1792—1795) электрическую раздражимость органов зрения и вкуса у человека, использовал гальваническое электричество для лечения нарушений слуха и, т.о., стал творцом нового метода лечения — гальванизации. В 1831 г. английский физик, основоположник учения об электромагнитном поле М. Фарадей (1791—1867) открыл явление электромагнитной индукции и сконструировал первый источник переменного тока — индукционную катушку, ток от которой, названный фарадическим током, получил широкое распространение в физиологических исследованиях, а также в практической М. как средство лечения. Во второй половине 19 в. стали применяться различные методы электротерапии, основанные на использовании электромагнитного поля и термоэлектрического эффекта. В 1837 г. другой итальянский физиолог К. Маттеуччи (1811—1868) доказал наличие разности электрических потенциалов между поврежденной и неповрежденной частями мышцы, а также обнаружил, что мышца при сокращении создает электрический ток, достаточный для раздражения другого нервно-мышечного соединения. Крупный вклад в развитие электрофизиологии внесли исследования Э. Дюбуа-Реймона (1818—1896), Э. Пфлюгера, Г. Гельмгольца, В.Я. Данилевского (1852—1939), Э. Марея (1830—1904), Б.Ф. Вериго (1860—1925), Н.Е. Введенского (1852—1922). В 19 и 20 вв. на основе достижений электрофизиологии были изучены многие процессы жизнедеятельности, возникли и получили развитие новые высокоэффективные методы диагностики (электрокардиография, электроэнцефалография и др.) и лечения.
Новый этап в изучении физико-химических основ жизнедеятельности. в частности различных электрических явлений в живых тканях организма, начался после разработки С. Аррениусом (1859—1927) теории электролитической диссоциации (1887). На ее основе В.Ю. Чаговец (1873—1941) впервые создал всеобъемлющую теорию происхождения электрических явлений в живых тканях и раздражающего действия на них электрического тока. На рубеже 19 и 20 вв. немецкий физикохимик В. Оствальд (1853—1932), голландский физикохимик Я. Вант-Гофф (1852—1911) и Ш. Овертон (1865—1933) развили представления о наличии на поверхности клетки полупроницаемой мембраны, способной задерживать одни ионы и пропускать другие.
В 19 в. были заложены основы физиологической оптики и физиологической акустики. Английский врач и естествоиспытатель Т. Юнг (1773—1829) — один из основателей волновой теории света — объяснил механизм аккомодации глаза и сформулировал первую трехкомпонентную теорию цветового зрения. Выяснение важнейших закономерностей физиологической оптики связано с исследованиями Г. Гельмгольца, который разработал теорию аккомодации, учение о цветовом зрении, сконструировал офтальмоскоп для прижизненного наблюдения за состоянием глазного дна. Голландский физиолог и врач Ф. Дондерс (1818—1889) сформулировал (1864) научные представления о механизмах нарушения рефракции и основах оптической коррекции дефектов зрения, сделал первое систематическое описание астигматизма глаза и внедрил в практику его коррекцию цилиндрическими линзами, установил связь между аккомодацией и конвергенцией и между аккомодацией и рефракцией и др. Немецкий физиолог Э. Геринг (1834—1918) изучил закономерности зависимости остроты восприятия и ощущения света от отношения их интенсивности к суммарной интенсивности всех ощущений, а также обусловленность сопряженных движений глаза их одинаковой иннервацией (законы Геринга).
Г. Гельмгольц в своих трудах заложил основы физиологии слуха. Он построил модель уха, предложил математическую теорию взаимодействия звуковых волн с органом слуха, доказал способность слухового аппарата анализировать сложные звуки и др.
Важное значение для разработки проблем гемодинамики и газообмена сыграли исследования французского физика и врача Ж. Пуазейля (1799—1869), который эмпирически установил закон истечения вязкой жидкости через цилиндрическую трубку (закон Пуазейля) и первый (1828) применил ртутный манометр для измерения кровяного давления, а также работы немецкого физика Г. Кирхгофа (1824—1887) в области гидродинамики. Немецкий химик Р. Бунзен (1811—-1899) и физик Г. Кирхгоф заложили основы спектрального анализа (1854—1859), внедрение которого сыграло большую роль в развитии биологической химии.
В 70—90-х гг. 19 в. были выполнены фундаментальные исследования в области электромагнитных явлений; открыты каналовые, катодные, рентгеновские лучи, радиоактивность, элементарные частицы и др., в результате чего изменились многие естественнонаучные представления. Так, открытие радиоактивности и элементарных частиц изменило представления о строении вещества, о неизменности, неделимости и элементарности атомов.
Радикальный переворот претерпела в 19 в. химия. В результате исследований А. Лавуазье, Дж. Пристли (1733—1804), К. Бертолле (1748—1822), А. Фуркруа (1755—1809) и др. в химии сложились новые научные представления: утвердился закон сохранения материи (массы), появилась химическая номенклатура, была раскрыта природа горения и опровергнута теория флогистона и т.д. Однако окончательное преобразование химий в науку произошло после победы учения о молекулярно-атомистическом строении вещества, сформулированного в трудах английского ученого Дж. Дальтона (1766—1844).
На основе молекулярно-атомистических представлений в 19 в. (главным образом в первой его половине) были проведены фундаментальные исследования и сформулированы основные понятия общей химии. Шведский химик И. Берцелиус (1779—1848) ввел современные химические символы, установил формулу многих веществ, в т.ч. воды, определил атомные веса 50 элементов. Русский химик А.М. Бутлеров создал (1861) теорию строения химических веществ. Крупнейшим достижением химии 19 в. стало открытие (1869) Д.И. Менделеевым (1834—1907) одного из основных законов естествознания — периодического закона химических элементов и создание периодической системы элементов.
Особенно важное значение имело возникновение и развитие так называемой синтетической органической химии: работы Ф. Велера (1800—1882), Н.Н. Зинина (1812—1880), А. Вюрца (1817—1884), П. Бертло (1827—1907) и других ученых разных стран. Исследования в области общей и органической химии оказали большое влияние на изучение химического состава органов и тканей организма, биологических соединений, химизма процессов жизнедеятельности, становление и развитие биологической химии.
В конце 18 — начале 19 в. началось изучение ряда биологически важных соединений, В 1791 г. русский химик Т.Е. Ловиц (1757—1804) выделил из меда глюкозу и фруктозу), в 1824 г. Ж. Конради — из желчи холестерин. Французский химик М. Шеврель (1786—1889) исследовал строение растительных и животных жиров, объяснил их омыление, выделил различные жирные кислоты. Ж. Пруст (1819) и А. Браконно (1820) путем гидролиза получили из желатины аминокислоты глицин и лейцин. В лаборатории К. Бернара в 1857 г. в тканях печени открыт гликоген, изучены пути его образования и механизмы расщепления.
Большое значение для фармакологии и М. имели выделение, изучение, разработка методов химического синтеза алкалоидов. В 1804 г. были открыты алкалоиды опия. В 1806 г. Ф. Сертюрнер (1783—1841) получил в чистом виде морфин. в 1818 г. П. Пеллетье и Ж. Каванту — бруцин и стрихнин, в 1819 г. Ф. Рунге — кофеин, в 1831 г. А.А. Воскресенский (1809—1880) — теобромин и др. После создания А.М. Бутлеровым теории химического строения стали возможным изучение строения алкалоидов и осуществление их синтеза в лабораторных условиях. Русский химик А.Н. Вышнеградский (1851—1880) доказал (1879), что большинство алкалоидов — производные пиридина и хинолина и разработал метод синтеза алкалоидов пиридинового ряда. Руководствуясь этим методом, А. Ланденбург в 1886 г. получил первый синтетический алкалоид — комиин; в дальнейшем были синтезированы теофиллин (1895), кофеин (1897), теобромин (1898) и др. Клиническое применение алкалоидов началось в 40—50-хх гг. 19 в. Исследование фармакологические свойств различных алкалоидов проводилось Р. Бухгеймом (1820—1879) и его сотрудники в первой в мире лаборатории экспериментальной фармакологии, созданной на медицинском факультете Дерптского университета в 50-х гг. 19 в. Клинико-фармакологическое изучение некоторых алкалоидов осуществлено в экспериментальной лаборатории при кафедре, которой руководил С.П. Боткин.
Хотя изучение действия пищеварительных соков началось во второй половине 18 в. — французский естествоиспытатель Р. Реомюр (1683—1757) и итальянский натуралист Л. Спалланцани (1729—1799) первые исследовали действие желудочного сока животных и птиц, возникновение энзимологии обычно связывают с именем химика К. Кирхгофа (1764—1833), открывшего каталитическое превращение крахмала в сахар под действием разбавленных кислот (1811) и фермента амилазы (1814). В 19 в. физиологами и биохимиками ферменты были обнаружены в пищеварительных соках: в слюне, желудочном соке, панкреатическом соке, кишечном соке. Большое влияние на развитие научной энзимологии оказали исследования А.Я. Данилевского и И.П. Павлова.
В ходе изучения механизмов брожения возникло две теории, дискуссии между сторонниками которых имели важное научное, в т.ч. философское, значение. Л. Пастер, открывший в 1861 г. явление анаэробиоза, связывал брожение исключительно с процессами жизнедеятельности определенных микроорганизмов, в частности дрожжевых грибков. Ю. Либих (1803—1873) развивал химическую теорию брожения, рассматривая процесс сбраживания сахара как сложную химическую реакцию, не требующую участия живых организмов. Химическая теория брожения окончательно утвердилась в науке после работ М.М. Манассеиной (1871), показавшей возможность сбраживания сахара разрушенными дрожжевыми клетками, и Э. Бухнера (1860—1917), выделившего бесклеточный дрожжевой сок, содержавший фермент, способный сбраживать сахар с образованием спирта и углекислоты.
В 40—50-х гг. 19 в. начались систематизация и обобщение накопленного материала, полученного в результате исследований химического состава растительных и животных организмов и химических реакций, лежащих в основе процессов жизнедеятельности.
Одним из творцов биологической химии является Ю. Либих, начавший с 1839 г. изучение химизма физиологических процессов (кроме брожения он выдвинул химическую теорию гниения, установил, что основными ингредиентами пищи являются белки, жиры, углеводы и др.). При возглавляемой им кафедре в Гессенском университете Ю. Либих создал лучшую в Европе химическую лабораторию, сыгравшую исключительную роль в развитии химического направления в медицине. В 1840 г. появилась книга Ю. Либиха «Органическая химия в применении к сельскому хозяйству и физиологии», в 1842 г. немецкий химик С. Зимон издал первое учебное пособие по медицинской химии. В 40—60-х гг. началось становление биологической (физиологической) химии в России. В 1847 г. профессором Харьковского университета А.И. Ходневым был издан первый учебник по физиологической химии. Организация первых кафедр биологической (физиологической) химии и создание первых отечественных биохимических школ связаны с деятельностью А.Я. Данилевского и А.Д. Булыгинского (1838—1907).
Большой вклад в разработку биохимических проблем внесли работы Э. Гоппе-Зейлера (1825—1895) по изучению химического состава жидких сред организма (крови, желчи, мочи), брожения, окислительных процессов в животном организме, а также процессов ассимиляции у зеленых растений. В результате исследований Э. Гоппе-Зейлера было доказано, что окислительные процессы в основном протекают в тканях организма, а не в крови, установлены спектр оксигемоглобина и условия его появления, открыт гемохромоген. Эти работы сыграли важную роль в возникновении и развитии идеи о связи окислительных и энергетических процессов с тканевым дыханием.
Одним из центральных событий в естествознании 19 в. было создание клеточной теории, принципиально изменившей многие представлений в биологии и особенно в морфологических науках. Клеточная теория революционизировала биологию, стала научной основой исследования объектов живой природы.
Хотя еще в 17 веке Р. Гук, М. Мальпиги, Н. Грю и А. Левенгук при микроскопировании наблюдали строение растений, идей всеобщности клеточного строения организмов стала распространяться лишь к началу 19 в. Одним из первых эту идею высказал Ж. Ламарк (1809). Чешский ученый Я. Пуркинье в 1825—1837 гг. разработал учение о клеточном строении растений и животных. В 1838 г. немецкий ботаник М. Шлейден (1804—1881) предположил, что все части растений представляют собой сообщества клеток или являются продуктом их жизнедеятельности. В 1839 г. вышел в свет знаменитый труд немецкого биолога Т. Здванна (1810—1882), в котором были изложены основные положения клеточной теории. Признание клетки как элементарной единицы, общей для растительных и животных организмов, вскрыло материальный субстрат единства органического мира и сыграло огромную роль в развитии диалектического взгляда на природу и процессы, происходящие в ней. Клеточная теория оказала огромное влияние на биологию и М., вызвав волну новых исследований, стимулировала развитие гистологии, эмбриологии, патологической анатомии, экспериментальной физиологии и медицины.
Отдельные факты и наблюдения, относящиеся к описанию микроскопического строения тех или иных органов, были сделаны еще в 17—18 вв. Однако рождение гистологии как самостоятельного раздела морфологии относят к началу 19 в. Французскому анатому и физиологу М. Биша принадлежит первая попытка систематизации тканей. Он считал, что ткани являются основными структурными и функциональными единицами жизни, носителями всех жизненных проявлений, в т.ч. патологических процессов, что каждому типу тканей присуща своеобразная функция (нервной — раздражимость, мышечной — сократимость и т.д.). Русский анатом, создатель первой отечественной анатомической школы П.А. Загорский (1764—1846) также занимался проблемой систематизации структур, из которых состоят органы животного организма. Дальнейшее развитие гистологии было связано с клеточной теорией, явившейся основой для классификации тканевых структур. В 40-х гг. 19 в. все многообразие растительных и животных тканей пытались классифицировать по гистогенетическому принципу (по типу превращения клеток). В 50—60-х гг. немецкие гистологи Р. Келликер (1817—1905) и Ф. Лейдиг (1821—1908) создали первую морфофизиологическую классификацию тканей, но без учета источника развития каждой из них. В 1855 г. немецкий гистолог и эмбриолог Р. Ремак (1815—1865) показал, что новые клетки в составе тканей появляются только в результате деления предшествующих и что уже зародышевые клетки отличаются друг от друга по структуре; различно и взаиморасположение клеток, в ходе дальнейшего развития дающих начало определенным тканям. К концу 19 в. в связи с накоплением материалов, свидетельствовавших о специфичности высокоорганизованных тканей животных и человека, возникавшей в ходе онтогенеза и обусловленной филогенетически, немецкий зоолог Э. Геккель (1834—1919) и французский патогистолог Л. Бар (1857—1930) предложили классифицировать ткани по генетическому принципу.
Большие успехи были достигнуты в изучении структуры и функции отдельных тканей и клеток. Крупный вклад в развитие гистологии животных и человека внесла пражская гистологическая школа, созданная Я. Пуркинье, в разработку проблем нейрогистологии во второй половине 19 в. — русские гистологи и гистофизиологи Ф.В. Овсянников (1827—1906), К.А. Арнштейн (1840—1919), И.М. Догель (1830—1916), А.С. Догель (1852—1922), В.М. Бехтерев (1857—1927), А.И. Бабухин (1827—1891) и др.
На прочный естественнонаучный фундамент встала эмбриология. В 19 в. была окончательно опровергнута концепция преформизма и получила естественнонаучное подтверждение теория эпигенеза, возникли и успешно развивались эволюционная и экспериментальная эмбриология. Появились работы отечественных ученых X.И. Пандера (1794—1865), К. Бэра (1792—1876), немецкого гистолога Р. Ремака (1819—1865) и многих других исследователей.
Фундамент эволюционной сравнительной эмбриологии, основанный на эволюционном учении Ч. Дарвина, заложили русские ученые И.И. Мечников (1845—1916) и А.О. Ковалевский (1840—1901), установившие, что развитие всех типов беспозвоночных проходит через стадию обособления зародышевых листков, гомологичных зародышевым листкам позвоночных. Этот факт лег в основу теории зародышевых листков А.О. Ковалевского (1871), согласно которой, у всех многоклеточных животных основные системы органов закладываются в виде слоев клеток, что свидетельствует о единстве происхождения всех многоклеточных животных.
Большой вклад в изучение морфологических изменений при различных заболеваниях внес венский врач, чех по национальности К. Рокитанский (1804—1878), по словам Р. Вирхова, «стяжавший славу Линнея патологической анатомии», К. Рокитанский дал классическое описание макроскопической картины различных заболеваний. Будучи первым патологоанатомом, не занимавшимся непосредственно клинической деятельностью, он положил начало патологической анатомии как самостоятельной специальности. Сосредоточив внимание на изучении морфологического субстрата болезненных процессов, К. Рокитанский ежегодно вскрывал до 1800 и более трупов, что позволило ему статистически оценивать встречавшиеся изменения и характеризовать определенные заболевания. Вместе с тем он стремился на основе секционного материала установить последовательность происходящих изменений, описать стадии патологического процесса, например при воспалении (гиперемия, инфильтрация, стаз и т.д.). В своих работах К. Рокитанский объяснял все болезненные явления с точки зрения гуморального учения о различных кразах (воспалительной, тифозной, туберкулезной, раковой и пр.). Кразы, по его мнению, возникали в результате «порчи соков», того или иного нарушения состояния белков и др. Эти взгляды были подвергнуты обоснованной критике, и в конце концов К. Рокитанский признал их несостоятельность.
Опыты Л. Пастера, которые указали на невозможность самопроизвольного зарождения, имели огромное практическое значение для развития медицины. В 1867 г. английский хирург Дж. Листер (1827—1912) произнес в Дублине речь о разработанной им противогнилостной повязке и о новом способе хирургического лечения ран, в которой указал: «Исследованиями Л. Пастера установлено, что гнилостные свойства атмосферы обусловливаются не кислородом или другими какими-либо газами, а самыми маленькими организмами, взвешенными в воздухе и деятельными вследствие их жизнеспособности. Только теперь кажется мне возможным оградить повреждения от разложения при помощи повязки, составные части которой могли бы уничтожить жизнь этих микроскопических организмов». В том же 1867 г. было помещено первое сообщение Дж. Листера на эту тему в журнале «Lancet», а спустя несколько лет в посвящении Л. Пастеру своего труда по антисептике он писал: «... только Ваши воззрения служили основами, давшими мне возможность довести антисептику до благополучного результата». В этой области Л. Пастером были выполнены классические исследования, послужившие основой медицинской микробиологии и учения об иммунитете. Исследуя выделенный им в 1880 г. возбудитель куриной холеры, Л. Пастер обнаружил, что введение ослабленной культуры этих микробов птицам не вызывало их гибели и в то же время делало их невосприимчивыми к болезни.
Это открытие привело Л. Пастера к разработке метода предохранительных прививок, которые явились эффективным средством борьбы с различными заразными болезнями. В 1885 г. Л. Пастер осуществил первые прививки против бешенства. Большое теоретическое и практическое значение исследований в области общей и медицинской микробиологии привело к организации в 1888 г. специального научно-исследовательского института в Париже (Пастеровский институт).
Наряду с трудами Л. Пастера и И.И. Мечникова громадную роль в развитии микробиологии сыграли исследования P. Koxa. Пользуясь изобретенными им способами окраски и культивирования микробов, он открыл в 1882 г. возбудителя туберкулеза (палочку Коха). Р. Кохом выполнены также классические исследования по изучению сибирской язвы. Р. Кох и его ученики выдвинули этиологическое учение, согласно которому только микроб, место его проникновения в организм человека, его количество и вирулентность определяли возможность возникновения и дальнейшее развитие, течение и исход инфекционного процесса. Однако Р. Кох не учитывал социальные причины заболевания (например, туберкулеза), игнорировал значение реакции макроорганизма и его роль в инфекционном процессе. Микробиология получила развитие во многих странах. Были открыты возбудители многих инфекционных болезней.
В 1892 г. русский ученый Д.И. Ивановский (1864—1.920) установил наличие фильтрующихся вирусов, являвшихся причинами болезни наряду с видимыми в микроскоп микробами. Это дало начало новой отрасли науки — вирусологии, которая получила бурное развитие в 20 в. На рубеже 19—20 вв. были совершены открытия, способствовавшие успехам в изучении малярии и борьбе с ней. В 1895—1897 гг. английский врач Р. Росс (1857—1932) открыл в Индии переносчика малярийных паразитов. В дальнейшем (1910) он сформулировал принципы борьбы с малярией. Итальянский ученый Дж. Грасси (1854—1925) детально описал развитие малярийных паразитов к организме самок комаров.
Успехи микробиологии были столь очевидны, что вторая половина 19 — начало 20 в. вошли в историю М. как бактериологическая эра, эра открытия нового мира микроорганизмов и понимания их роли в патологии человека. Увлечение бактериологией захватило широкий круг практических врачей почти всех специальностей. В связи с расцветом бактериологии в этот период механистическое понимание причинности нашло проявление в монокаузализме — направлении мышления, резко переоценивавшем роль бактериальных возбудителей в этиологии и патогенезе заболеваний.
Внимание исследователей, поглощенное поисками и изучением возбудителей болезней, было отвлечено от изучения реактивности организма, многообразия его ответов на действие внешних факторов. Абсолютизация величайших открытий бактериологии и механистическое представление о причинности привели к тому, что идеи монокаузалистов постоянно входили в противоречия с медицинской практикой, оставляя многие факты без объяснения, смыкаясь в конечном счете с фатализмом. Многие видные представители М., особенно клиницисты и гигиенисты, выступали с резкими возражениями против недооценки роли условий окружающей среды, в т.ч. социальных условий жизни, в этиологии заболеваний. Вместе с тем открытия патогенных микроорганизмов сопровождались изысканием методов микробиологической диагностики, специфической профилактики и терапии. Они позволили выяснить источники инфекций, пути их распространения, разработать систему научно обоснованных противоэпидемических мер. Таким путем была установлена непосредственная связь бактериологии с клиникой инфекционных болезней и эпидемиологией.
На основе работ Л. Пастера началось развитие учения о защитных силах организма против заразных болезней. С разработкой инфекционной иммунологии связаны открытие многих факторов принципиального значения и установление закономерностей, которые не потеряли своей ценности и до нашего времени. Внимание исследователей прежде всего было обращено на изучение причин, обусловливающих иммунитет после прививок. Появились гипотезы и теории иммунитета. И.И. Мечниковым (1883) была создана первая экспериментально обоснованная фагоцитарная теория иммунитета, согласно которой фагоциты обеспечивали невосприимчивость организма к микробу, а после перенесения заболевания усиливали свою активность.
На протяжении длительного времени велась оживленная научная дискуссия между сторонниками клеточного и гуморального иммунитета. Первое направление возглавлял И.И. Мечников, теорию гуморального иммунитета особенно плодотворно развивал П. Эрлих. На первых порах казалось, что оба эти направления находятся в резком противоречии друг с другом. Дальнейший ход развития науки, однако, показал, что между клеточными и гуморальными факторами иммунитета существует тесное взаимодействие. Признанием ценности этих двух теорий явилось одновременное присуждение в 1908 г. Нобелевской премии основоположнику клеточной теории иммунитета И.И. Мечникову и основоположнику гуморальной теории П. Эрлиху.
До начала 20 в. работы в области иммунологии были направлены главным образом на раскрытие механизмов невосприимчивости (иммунитета) к инфекционным болезням. Успехи, достигнутые в разработке проблем инфекционной иммунологии, внесли неоценимый вклад в специфическую диагностику, профилактику и терапию инфекционных болезней и создали необходимый теоретический фундамент для развития общей иммунологии. Однако дальнейшие исследования показали, что иммунология охватывает более широкий круг проблем, далеко выходящий за рамки науки и невосприимчивости к инфекционным болезням.
В 1858 г. вышла в свет знаменитая книга Р. Вирхова «Патология, основанная на теории ячеек» (целлюлярная патология). Р. Вирхов первый применил теорию клеточного строения при изучении больного организма, причем принял ее в том виде, в котором она была сформулирована Т. Шванном, даже несколько углубив его механистические представления об абсолютной автономности отдельных клеток. Принципу абсолютной автономности жизненных явлений в клетке он остался верен до конца своей жизни. Р. Вирхов утверждал, что жизнь целого представляет сумму жизней автономных клеточных территорий, из которых каждая, отдельно взятая, обладает всей полнотой жизненных свойств. Формулируя теорию патологии, основанную на учении о клетке как исключительном материальном субстрате болезни, Р. Вирхов преследовал цель преодолеть односторонность гуморальной патологии, сводившей сущность болезненных процессов к ненормальному смешению соков организма, и солидарных, в т.ч. «невристических», концепций, видевших причины заболеваний в изменениях плотных частиц и нарушениях нервной системы. Ясная и последовательная теория Р. Вирхова произвела огромное впечатление в среде медиков-исследователей. Ученые многих стран активно продолжали изучение процессов, которые являлись в их глазах отражением реактивных изменений в жизни клеток, и провели ряд важных работ по проблемам опухолей и воспаления. Чрезвычайно выросла роль патологоанатомических вскрытий как своеобразного «контролера» клиницистов. Широко развивалась сеть прозекторских, ставших обязательной частью каждой более или менее крупной больницы во всем мире.
Историческое значение теории Р. Вирхова определил С.П. Боткин в речи для Общества русских врачей (1881): «Анатомопатологические исследования Вирхова, пополнявшиеся опытами над животными и клиническими наблюдениями, имели особенно важное значение для практической медицины: Вирхов выучил целые поколения врачей не ограничиваться одними гипотезами, а путем исследования искать истины. В этом-то, по моему мнению, и заключается истинная заслуга Вирхова. Его окончательные выводы могут измениться, целлюлярная теория может быть заменена новою, но путь исследования, указанный Вирховым, останется надолго открытым, с богатыми плодами в будущем».
Хотя целлюлярная патология во многом способствовала изучению морфологических изменений при патологических процессах, выявлению их гистогенеза, развитию микроскопической анатомии и диагностики, Р. Вирхов и его последователи, выступая против «грубых механических и химических направлений в науке», противопоставляя им «более тонкую механику и химию клеточки», считали, что основой жизни является «сообщенная, производная сила, которую необходимо отличать от действующих наряду с нею собственно молекулярных сил». Т.о., методологической основой целлюлярной патологии был механистический материализм, сочетавшийся с виталистическими и позитивистскими взглядами.
С конца 19 в. многие западноевропейские клиницисты стали испытывать неуверенность в правильности терапии, основанной на локалистическом принципе. Известный немецкий клиницист Г. Цимссен (1829—1902) говорил: «... Современная терапия обращает слишком мало внимания на общую конституцию, на человека, взятого в целом, и его индивидуальность. В этом отношении, я полагаю, старые врачи стояли гораздо выше нас и достигали часто лучшего терапевтического результата, нежели мы, направляющие нашу терапию главным образом против местного расстройства». Одновременно патологи начали накапливать новые факты и сведения о процессах, происходящих в организме на ранней стадии болезни до появления анатомических нарушений.
В 1893 г. вышла книга немецкого патолога Л. Креля «Патологическая физиология». Крель принадлежал к тому поколению врачей, которое выросло в период господства локалистического принципа. Однако в своей работе он подобно Цимссену подчеркивал, что врачи зашли слишком далеко в следовании целлюлярной патологии и что необходимо обращать все большее внимание на изучение изменений всего организма. Вопреки Р. Вирхову Л. Крель признавал существование болезней всего организма, к которым относилось, по его мнению, большинство болезненных состояний человека. К кризису локалистических представлений стали приводить и накапливавшиеся со стремительной быстротой факты, полученные в результате гистологических исследований.
Дальнейшим успехам М. способствовала разработка общей теории развития природы и общества, которая в первой половине 19 в. приобретала все больше сторонников. Эволюционно истолковал «Лестницу развития» французский ученый Ж. Ламарк (1809), который полагал, что путь совершенствования живых существ от низших к высшим совершался на основе внутреннего, присущего организмам стремления к прогрессу (принцип градации). Окружающая среда вызывала отклонения от «правильной» градации и определяла приспособление вида к условиям существования. Французский ученый Э. Жоффруа Сент-Илер (1772—1844) пытался обосновать натурфилософское учение об «единстве плана строения животных», которое он в дальнейшем объяснял общностью их происхождения. По его мнению, эволюционные изменения происходили внезапно в результате прямых воздействий окружающей среды. Отечественный ученый, создатель первой додарвинской школы зоологов-эволюционистов К.Ф. Рулье (1814—1858) углубил и развил представления своих предшественников, предвосхитив их подлинно эволюционное истолкование.
В 1859 г. вышел в свет труд Ч. Дарвина «О происхождении видов путем естественного отбора», в котором на огромном фактическом материале доказывалось эволюционное развитие органического мира. Предложив теорию естественного отбора, Ч. Дарвин раскрыл и механизм органической эволюции, дал причинный анализ ее движущих факторов. Он показал, что приспособленность организмов к условиям их жизни есть продукт длительного исторического развития органической природы, результат действия естественного отбора. Учение Ч. Дарвина внедрило в биологию исторический подход ко всем явлениям жизни, способствовало разработке ряда новых направлений в биологии и М.: эволюционной сравнительной анатомии, эволюционной эмбриологии, эволюционной палеонтологии и др. С поддержкой теории Ч. Дарвина выступал Э. Дюбуа-Реймон и др. Активно поддерживали эволюционные идеи передовые русские ученые, в т.ч. врачи; Россию называли второй родиной дарвинизма.
На основе синтеза достижений физики и химии, развития гистологии и разработки методики прямого исследования на живых существах путем систематически осуществлявшихся вивисекций возникли экспериментальные физиология и медицина, оказавшая огромное влияние на последующий прогресс в области клинической медицины. Эта «триада условий» сложилась лишь в начале 19 в., в значительной мере благодаря трудам А. Лавуазье, М. Биша и Ф. Мажанди. К наиболее значительным открытиям Ф. Мажанди (1783—1855) относятся: экспериментальное обоснование (1822) положения английского физиолога Ч. Белла (1774—1842) о распределении двигательных и чувствительных волокон в корешках спинномозговых нервов (закон Белла — Мажанди), доказательство трофического влияния нервной системы (1824), проницаемости тканей, стенок лимфатических и кровеносных сосудов, обнаружение феномена возвратной чувствительности в передних корешках спинного мозга. Эксперимент у Ф. Мажанди был обычным приемом не только научного исследования, но и преподавания. Он перенес эксперимент из лаборатории в аудиторию, пользуясь на лекциях животными, как химик реактивами, и демонстрируя слушателям эксперименты не только по физиологии, но и по патологии. Его лекции собирали студентов и ученых из всех стран Европы. Вместе с тем, бесспорно являясь одним из основоположников экспериментальной физиологии, Ф. Мажанди принадлежал к числу экспериментаторов-эмпириков, видевших основную задачу научного исследования в накоплении фактов и считавших, что лишь группировка фактов может раскрыть смысл полученных результатов эксперимента. Сам Ф. Мажанди отказывался выходить за пределы фактических данных и делать на основании серии экспериментов какие-либо обобщающие выводы.
Основатель немецком физиологической школы И. Мюллер четко поставил проблему усовершенствования физиологического эксперимента. «Я бы хотел, — писал он, — чтобы физиологические эксперименты давали такие же верные и точные результаты, как эксперименты физиков и химиков». Однако сам он еще не точно различал наблюдение и опыт.
Свое понимание отличия эксперимента от наблюдения сформулировал К. Бернар (1813—1878). Оно, по его мнению, состояло в том, что наблюдение происходит в естественной обстановке, который нельзя распоряжаться: экспериментирование же производится и условиях, вызываемых экспериментатором и изменяемых по его произволу. К. Бернар выяснил роль поджелудочной железы в процессе пищеварения, обнаружил гликогенообразовательную функцию печени и экспериментально показал способность печени превращать гликоген в сахар, открыл много других новых факторов, относившихся к различным областям физиологии, биохимии, фармакологии и экспериментальной патологии. К. Бернар установил отношение эксперимента к эмпирии, исходя из положения. что М. являлась сначала наблюдательной наукой. Он утверждал, что научная, или экспериментальная, М. не исключает ни эмпиризма, ни знакомства со средствами, которые практическая М. в течение столетии черпала в нем. Наблюдательная М., по его мнению, есть в основном выжидательная М. Экспериментальная же М., наоборот, активная, которая разрешит проблему действенного влияния на больного. В состав ее входят экспериментальная физиология, экспериментальная патология и экспериментальная терапия. Сознательно отказавшись от поисков первопричины жизненных явлений, поскольку «это дело не естествознания, а метафизики», К. Бернар утверждал, что цель экспериментального метода состоит в том, чтобы отыскать отношения, связывающие какое-либо явление с ближайшей причиной, анализировать и разобщать явления, чтобы сводить их к отношениям все более и более простым. Защищая эксперимент. К. Бернар отводил возражения многих ученых, считавших, что данные, обнаруженные на животных, не могут быть перенесены на человека, т.к. болезни связаны с диатезами, конституцией, у больного могут быть идиосинкразии, чего никогда не получить экспериментированием. К. Бернар на основе своих многочисленных опытов имел право утверждать, что как жизненные элементы одинаковы у всех живых существ, так и свойства их подчиняются одинаковым законам. Вивисекционный метод К. Бернара открыл путь к изучению не только нормальных (функций организма, но и причин патологического изменения этих функций.
К. Бернар постоянно утверждал, что патология больного и физиология здорового — две стороны (физиологии человека. В одной из своих лекции он утверждал, что патологические состояния — это лишь изменение нормального состояния и поэтому наши знания к области патологии будут расширяться по мере того, как будет успешно развиваться физиология, изучающая здорового человека. Устанавливая единство физиологии в приложении к здоровому и больному состоянию. К. Бернар заявлял вместе с тем, что клиника должна обязательно быть основой М. Больной является объектом изучения для врача, и именно клиника знакомит с ним. Физиология же приходит потом лишь для объяснения того, что наблюдается в клинике. К. Бернар считал, что лаборатория нужна врачам так же, как химикам или физикам.
19 в. ознаменовался успехами в изучении функции ц.н.с.. Французский физиолог М. Флуранс (1794—1867) открыл в продолговатом мозге дыхательный центр, сформулировал понятие о пластичности нервных центров и установил, что большие полушария головного мозга играют ведущую роль в регуляции произвольных движений. Дальнейшему изучению роли различных отделов ц.н.с. в регуляции физиологических функций способствовало широкое применение метода экстирпации (удаления) различных участков головного мозга. Исходным пунктом многочисленных исследований локализации функций в коре больших полушарий головного мозга явились опыты немецких ученых Г. Фрича (1838—1891) и Э. Гитцига (1838—1907), показавших возможности прямого раздражения коры больших полушарий и открывших с помощью этого метода моторные зоны головного мозга (1870). Немецкий физиолог Ф. Гольтц (1834—1902) положил начало представлению о том, что большие полушария головного мозга — орган приспособления животного организма к окружающей среде.
С помощью локального электрического раздражения и электрофизиологической методики была определена локализация первичных и вторичных сенсорных зон. Крупными открытиями, сделанными М. Флурансом, И. Брейером (1842—1925), И.Ф. Ционом (1842—1912) и др., были обнаружение рецепторной функции вестибулярного аппарата и полукружных каналов и установление их роли в пространственной ориентации организма и поддержании равновесия тела. Большой вклад в развитие электрофизиологии и разработку электрофизиологических методов исследования внесли Э. Дюбуа-Реймон, Э. Пфлюгер, Ю. Бернштейн (1839—1917), Б.Ф. Вериго (1860—1925), Э. Марей, В.Я. Данилевский (1852—1939), Н.Е. Введенский.
Выдающиеся исследования по физиологии ц.н.с. выполнены отечественными учеными. А.М. Филомафитский (1807—1849) и И.Т. Глебов положили начало экспериментальному преподаванию физиологии в России. И.М. Сеченов (1829—1905) обосновал рефлекторную природу сознательной и бессознательной деятельности, показал, что к основе психических процессов лежат физиологические процессы, открыл явления центрального торможения, суммации в нервной системе, наличие ритмических биоэлектрических процессов в ц.н.с. Книга И.М. Сеченова «Рефлексы головного мозга» (1863) оказала решающее влияние на формирование материалистических воззрений врачей и физиологов. Наиболее полно и последовательно физиологический подход и идеи нервизма были использованы в клинической медицине С.П. Боткиным (1832—1889) — основоположником научного направления отечественной внутренней медицины и А.А. Остроумовым (1841—1908). В свою очередь, взгляды С.П. Боткина оказали глубокое влияние на И.П. Павлова, труды которого по физиологии пищеварения были удостоены Нобелевской премии (1904), а созданное И.П. Павловым учение о высшей нервной деятельности определило пути решения многих проблем как теоретической, так и клинической медицины. Многочисленные ученики и последователи И.М. Сеченова работали в различных областях экспериментальной физиологии: Н.Е. Введенский, А.Ф. Самойлов (1867—1930), И.P. Тарханов (1846—1908), Б.Ф. Вериго, В.Ю. Чаговец — в области нейро- и электрофизиологии, М.Н. Шатерников (1870—1939) — в области физиологии трудовых процессов и обмена веществ, И.П. Кравков (1865—1924) — в области экспериментальной фармакологии.
Английские физиологи Гаскелл (1847—1914) и Дж. Ленгли (1852—1925) в конце 19 в. — начале 20 в. заложили основы современных представлений о функциях вегетативной нервной системы. Немецкий физиолог К. Людвиг (1816—1895) изобрел кимограф (1847), поплавковый манометр для регистрации кровяного давления, кровяные часы для регистрации скорости кровотока и др. В 1866 г. он совместно с И.Ф. Ционом открыл депрессорный нерв, раздражение центрального конца которого рефлекторно вызывало расширение кровеносных сосудов и снижение кровяного давления. Исследуя слюнные железы, доказал наличие секреторных нервов.
Французский физиолог Э. Марей разработал графический метод регистрации физиологических функций, создал ряд оригинальных приборов, автоматически записывавших движения животных и их органов, пневматическую капсулу, сфигмограф и кардиограф, миограф и др., впервые применил фотографию для регистрации движений человека и животных. Итальянский физиолог А. Моссо (1846—1910) с помощью изобретенных им приборов для изучения кровенаполнения органов (плетизмографа, гидросфигмографа) и весов особой конструкции, позволивших регистрировать изменения гемодинамики, изучал функционирование сердечно-сосудистой системы при различных состояниях.
В конце 19 в. вошли в обиход физиологических лабораторий методы хронического экспериментирования с применением хирургической техники, позволившие изучать в течение длительного времени функции животного, находившегося в нормальных для него условиях существования. Немецкий физиолог и гистолог Р. Гейденгайн (1834—1897) разработал (1879) операцию создания искусственного изолированного желудочка из фундальной части желудка подопытного животного и впервые в условиях эксперимента наблюдал секрецию чистого желудочного сока. В конце 19 в. — начале 20 в. И.П. Павлов использовал хронический эксперимент с наложением на желудок собаки фистулы; операция впервые выполнена русским хирургом В.А. Басовым (1812—1879) для исследования физиологии пищеварения.
Одним из первых экспериментаторов в духе К. Бернара в клинике был немецкий терапевт Л. Траубе (1818—1876). Его труды свидетельствуют не только о большой наблюдательности, но и об умении провести тонкий эксперимент. Так, он писал: «Основываясь на результате моих опытов, я должен принять, что в блуждающих нервах проходят от легкого к продолговатому мозгу волокна, возбуждение которых вызывает вдыхательные движения, и я утверждаю далее, что всякое увеличение частоты дыхания происходит вследствие возбуждения этих волокон». И.П. Павлов на основании своих исследований с перерезкой у собаки обоих блуждающих нервов склонялся к мысли, что Л. Траубе подошел чрезвычайно близко к пониманию причины смерти животных при этой операции. Другим крупным клиницистом, уделявшим особое внимание эксперименту в клинике, был С.П. Боткин.
Стремление К. Бернара поставить экспериментальную М. на службу терапии начало приносить плоды еще при его жизни. Так, Э. Пфлюгер в своей ранней работе «Об электротонусе» (1859) заложил основы электродиагностики и электротерапии целого ряда нервных заболеваний. Развитие экспериментальной фармакологии связано с именами Р. Бухгейма, Н.П. Кравкова и др., экспериментальной гигиены — М. Петтенкофера, К. Фойта (1831—1908), М. Рубнера — в Германии, А.П. Доброславина (1842—1889) — в России и др.
Развитие клинической медицины в 19 в. характеризуется постепенным переходом от врачевания как ремесла и искусства на позиции одной из областей естественных наук. Основы для такого перехода были созданы достижениями естествознания в целом и теоретической М. в частности: патологической анатомии с введением в больничный обиход прозекторского дела и клинико-морфологических сопоставлений; экспериментальной М., способствовавшей формированию функционального подхода клиницистов к проблемам патологии; бактериологии, установившей специфическую природу инфекционных болезней. Исключительную роль в развитии клинической М. на естественнонаучной основе сыграли новые методы объективного исследования больного. Эти тенденции медицины 19 в. ярко отражены в истории клиники внутренних болезней — основной области клинической медицины.
Основоположник парижской клинической школы, оказавшей большое влияние на развитие всей европейской М., профессор кафедры внутренней медицины College de France Ж. Корвизар систематически проводил клинико-анатомические сопоставления, активно внедрял и клиническую практику физические методы обследования больного, исследовал семиотику внутренних болезней. В 1808 г. он опубликовал забытую всеми работу Л. Ауэнбруггера о перкуссии, снабдив ее обширными комментариями, основанными на 20-летнем опыте собственных проверочных исследований, и тем самым внедрил новый метод во врачебную практику. Широкому распространению перкуссии в значительной мере способствовало изобретение в 1826 г. учеником Ж. Корвизара П. Пьорри (1794—1879) плессиметра. Лекции Ж. Корвизара о болезнях сердца (1806), где аккумулированы характерные черты школы Корвизара — чрезвычайная врачебная наблюдательность, методичность исследования больного, постоянный интерес к сопоставлению данных клиники и патологической анатомии, заложили основы семиотики болезней сердца и сосудов. Ученик Ж. Корвизара Р. Лаэннек (1781—1826) призывал верить только фактам, добытым врачебным наблюдением и научными исследованиями, он изобрел стетоскоп и разработал метод аускультации, применение которого в сочетании с другими способами исследования больного и систематической работой в секционной позволило ему описать основную семиотику заболеваний легких; дать патологоанатомическую классификацию заболеваний легких, бронхов и плевры; подробно изучит клинику и патоморфологию туберкулеза легких. Другой ученик Ж. Корвизара Ж. Буйо (1796—1881) заложил основы аускультативной диагностики болезней сердца, дал правильную оценку диагностическому значению шумов при клапанных пороках, описал трехчленный ритм при митральном пороке, ритм галопа, абсолютную (мерцательную) аритмию, установил закономерность эндо- и перикардита при остром суставном ревматизме. Независимо от него в 1836 г. русским терапевтом Г.И. Сокольским (1807—1886) было доказано, что при ревматизме поражаются не только суставы. но в первую очередь сердечно-сосудистая система. Г.И. Сокольский в 1835 г. опубликовал первый после Р. Лаэннека крупный труд, посвященный диагностике внутренних болезней с помощью аускультации. Россия стала вообще одной из первых стран Европы, где передовые врачи пропагандировали физические методы исследования. Русские врачи Я.О. Саполович (1766—1830) и Ф. Уден (1754—1823) еще в 90-х гг. 18 в. до работ Ж. Корвизара применяли перкуссию по Л. Ауэнбруггеру. В Виленском университете и в Петербурге В. Герберский, Ф. Римкевич и П.А. Чаруковский (1798—1848) использовали перкуссию и аускультацию в 20-х гг. 19 века.
В другом центре развития клинической медицины 19 в. — Берлине основатель крупной терапевтической школы И. Шенлейн (1793—1864) и его ученики способствовали введению естественнонаучных методов исследования в клинику, активно пропагандировали перкуссию, аускультацию, лабораторные исследования, клинико-патологоанатомические сопоставления.
Третьим центром европейской клинической М. была Вена, где чех И. Шкода (1805—1881) — крупнейший наряду с К. Рокитанским представитель так называемой нововенской школы дал научное обоснование перкуссии и аускультации и показал (1839), что объективные симптомы еще не составляют самой болезни, а являются только отражением определенных изменений в организме, вызванных болезнью. Для И. Шкоды и других представителей новой венской школы характерно скептическое отношение ко всякому теоретизированию, они требовали заменить шаткие основы эмпирии научными фактами. «Медицина должна быть наукой, а не искусством», — единогласно провозглашали многие медицинские журналы, возникшие в 40-х гг. 19 в.
Развитие диагностики не сопровождалось, однако, аналогичными успехами в лечении. Более того, стремление к разработке научно обоснованной терапии и осознание опасности царившем полипрагмазии, бесконечных кровопусканий, слабительных и рвотных средств породили скептицизм в отношении лечебных возможностей М. и терапевтический нигилизм. «Мы можем распознать, описать и понять болезнь, — говорил И. Шкода, — но мы не должны даже мечтать о возможности повлиять на нее какими-либо средствами». Вместе с тем некоторым ведущим клиницистам удалось избежать крайностей полипрагмазии и терапевтического нигилизма. К ним могут быть отнесены. Например, профессор Берлинского университета К. Гуфеланд (1762—1836), который еще в 1795 г. основал «Журнал практической медицины», где печатал статьи представителей самых различных медицинских направлений; венские врачи И. Оппольцер (1808—1871) и К. Нотнагель (1841—1905); французский терапевт А. Труссо (1801—1867); С.П. Боткин и Г.А. Захарьин (1829—1897). Важную роль в борьбе с терапевтическим скептицизмом и нигилизмом сыграли возникновение и развитие экспериментальной фармакологии, в частности деятельность Р. Бухгейма, основавшего в 1847 г. в Дерптском университете первую в мире лабораторию по экспериментальной фармакологии, и клинико-фармакологические исследования, проводимые в экспериментальной лаборатории клиники С.П. Боткина. Во второй половине 19 в. медицина начала постепенно обогащаться новыми лекарственными средствами (морфин, кодеин, папаверин, атропин, бром и т.п.).
Новый этап в развитии германской, а затем и всей европейской внутренней М. начинается с работ Л. Траубе — ученика И. Шенлейна и И. Шкоды, Я. Пуркинье и И. Мюллера, К. Рокитанского, последователя Р. Вирхова. В 1843 г. Л. Траубе начал читать курс лекций по аускультации и перкуссии и внес в разработку и пропаганду этих методов исследования столь весомый вклад, что в этой области его имя ставится в один ряд с такими именами, как Ж. Корвизар, Р. Лаэннек и И. Шкода. Л. Траубе и его соотечественнику К. Вундерлиху (1815—1877), предложившему температурные кривые, клиническая М. обязана введением метода термометрии во врачебную практику (систематическое измерение температуры характерно для школы Г. Бурхаве, т.е. было введено на целое столетие раньше, однако, как и перкуссия Л. Ауэнбруггера, этот метод не получил распространения в медицине 18 в. и был забыт).
Функциональное направление, основанное на достижениях физиологии и экспериментальной патологии, получило яркое воплощение в трудах основоположника крупнейшей научной школы русских терапевтов С.П. Боткина, А.А. Остроумова (1844—1908), в Германии — Б. Наунина (1839—1925) — автора известных клинико-экспериментальных работ по проблемам сахарного диабета, желчнокаменной болезни и желтухи, лихорадки и др., во Франции — П. Потена (1825—1901) — ученика Ж. Буйо, изучившего механизмы возникновения функциональных шумов и ритма галопа, обогатившего функциональную диагностику методом Полиграфии и опытом клинического изучения артериального давления и явившегося вместе с А. Юшаром (1844—1910) одним из основоположников клинической кардиологии; в Великобритании — Дж. Маккензи (1853—1925). В конце 19 в. успехи физики, химии, физиологии определили быстрое развитие графических и других способов функционального исследования, направленного на выявление ранних изменений функции органа.
К общеклиническому непосредственному исследованию больного, дополненному во второй половине 19 в. детально разработанным анамнестическим методом Г.А. Захарьина, в конце века добавилось также лабораторное исследование крови: подсчет форменных элементов крови и методы их окраски.
К числу проблем внутренней М., наиболее интенсивно разрабатывавшихся клиницистами 19 в., относились прежде всего семиотика и диагностика, патогенез и лечение болезней сердца и сосудов. Особенно значительный вклад в их изучение внесли Э. Лейден (1832—1910) в Германии, Ж. Дьелафуа (1839—1911) во Франции. Р. Брайт (1789—1858) — один из самых известных лондонских врачей того времени — описал диффузное поражение почек с «водянкой» и «белковой мочой». Работая в содружестве с химиками, он знал о повышении у больных содержания мочевины в крови, как и об увеличении сердца и сердечной недостаточности при хронических заболеваниях почек. Учение о брайтовой болезни (нефрите) остается ведущим и в современной нефрологии. Соотечественник и современник Р. Брайта Т. Аддисон (1793— 1860) описал злокачественное малокровие и бронзовую болезнь, чем способствовал формированию клинических основ будущих гематологии и эндокринологии. Швейцарский терапевт Г. Сали (1856—1933) предложил ряд новых клинических методов исследования, в т.ч. метод определения гемоглобина.
Развитие методов исследования, накопление знаний о происхождении, сущности и проявлениях болезней создали условия для их научной систематизации, что сопровождалось дифференциацией клинической М. — процессом, начавшимся в 19 в. и особенно характерным для медицины 20 в. Еще в первой половине 19 в. началось выделение из всеобъемлющей терапии в самостоятельную дисциплину дерматологии. Тогда же И. Шенлейн в Германии заложил основы учения о дерматомикозах. Во второй половине 19 в. из терапии выделилась невропатология, основоположниками которой были Ж. Шарко (1825—1893) во Франции, А.Я. Кожевников (1836—1902) в России. В. Эрб (1840—1921) в Германии, Дж. Джексон (1835—1911) в Великобритании. Развитие невропатологии опиралось на быстрый прогресс в знаниях о структуре и функции головного мозга и на многочисленные клинические наблюдения и исследования.
Одновременно с невропатологией и в тесной связи с ней оформлялась в качестве самостоятельной научной дисциплины и предмета преподавания психиатрия, обособление которой как врачебной специальности началось еще в 18 в. Исключительную роль в формировании материалистического подхода к трактовке проблем психической патологии, в разработке нозологической классификации психозов сыграли исследования В. Гризингера (1817—1868), К. Вернике (1848—1905), К. Кальбаума (1828—1899), Э. Крепелина (1856—1926) в Германии, Т. Мейнерта (1833—1892) в Австрии, В.X. Кандинского (1849—1889), С.С. Корсакова (1854—1900) в России. Развитие учения о неврозах и психопатиях (прежде всего благодаря трудам парижской школы невропатологов и психиатров, созданной Ж. Шарко) обусловило выход психиатрии за рамки «учения о помешательстве»; предметом ее изучения стали любые болезненные изменения психики человека.
Детищем медицины 19 в. стала педиатрия, формирование которой также тесно связано с развитием клиники внутренних болезней: характерно, например, что крупнейший русский педиатр второй половины 19 в. Н.Ф. Филатов (1847—1902) был учеником Г.А. Захарьина. В Германии в 30—40-х гг. были организованы небольшое детское отделение в берлинской больнице Шарите, первая кафедра детских болезней и первый педиатрический журнал; во второй половине 19 в. научная педиатрия, видным представителем которой был О. Гейбнер (1843—1926), добилась значительных успехов в направлении лабораторно-экспериментального и патоморфологического изучения детских болезней. Ведущую роль в формировании педиатрии, выделившейся в самостоятельную клиническую дисциплину во второй половине 19 в., сыграла Франция: еще в 1802 г. в Париже была открыта детская больница, на базе которой сформировался основной центр, в течение нескольких десятилетий готовивший педиатров для всей Европы.
В конце 19 в. началось выделение из внутренней М. инфекционных болезней. Развитие этой дисциплины происходило на основе достижений бактериологии, иммунологии; исключительное значение имела, в частности, предложенная в 1896 г. французским терапевтом Ф. Видалем (1862—1929) реакция агглютинации при брюшном тифе, которая явилась началом серодиагностики инфекционных болезней.
Хирургия в 19 в. подверглась радикальным изменениям, стала несравнимо более смелой и всеобъемлющей и благодаря двум выдающимся достижениям — открытию наркоза и разработке метода антисептики, а затем асептики — добилась таких практических успехов, каких не знала вся ее предыдущая многовековая история. Открытию в 1846 г. наркоза, устранившего боль и шок — важнейшие препятствия на пути развития хирургии, предшествовали большие завоевания в области химии. В 80-х гг. 18 в. в Англии Дж. Пристли (1733—1804) выделил кислород, закись азота и другие газы, экспериментально изучал их действие на животных и человека, впервые применив ингаляционный метод наркоза. Под влиянием этих исследований был организован «Пневматический институт», где химик Г. Дэви (1778—1829) исследовал действие различных газов и газовых смесей на организм, наладил получение химически чистой закиси азота (1799), названной им веселящим газом, в опытах на себе показал его опьяняющее и болеутоляющее действие и высказал мысль, что газовый наркоз закисью азота может быть использован для хирургических операций. В 1818 г. ученик Г. Дэви английский физик М. Фарадей установил снотворное действие паров эфира. Однако понадобились десятилетия, чтобы эти открытия были применены в целях обезболивания при хирургических операциях. В 1842 г. американский врач К. Лонг (1815—1878) впервые в хирургической практике успешно использовал эфирный наркоз, но не опубликовал свое открытие, В 1846 г. бостонский зубной врач У. Мортон (1819—1868) по совету врача и химика Ч. Джексона (1805—1880) и после опыта, проведенного на себе, удалил у больного зуб под эфирным наркозом. В том же году главный хирург Массачусетского госпиталя Дж. Уоррен при участии У. Мортона публично произвел удачную операцию удаления опухоли шеи под эфирным наркозом. Эта дата вошла в историю М. как начало широкого применения в хирургии методов эффективного обезболивания. В числе первых хирургов, использовавших эфирный наркоз (1847), были русские врачи Ф.И. Иноземцев (1802—1869) и Н.И. Пирогов. В 1847 г. английский акушер Дж. Симпсон (1811—1870) предложил и применил для наркоза хлороформ.
В связи с опасностями, выявленными при первых опытах использования наркоза, возрос интерес к разработке методов местного обезболивания. В 1845 г. Ф. Ринд (1801—1861) изобрел полую иглу, а в 1853 г. А. Вуд (1817—1884) и Ш. Пранац (1791—1853) предложили шприц для парентерального введения лекарственных и анестезирующих (раствор морфина) средств. После того как из листьев южноамериканского растения Erythroxylon coca Lam. был выделен алкалоид кокаин (1860), это средство стали применять для местной анестезии. В 90-х гг. получил распространение метод местного обезболивания струей распыленного хлорэтила. В 1899 г. немецкий хирург А. Бир (1861—1949) впрыснул кокаин в подпаутинное пространство с помощью поясничной пункции и открыл метод спинномозговой анестезии.
Разработка методов обезболивания была важнейшим условием дальнейшего развития хирургии, однако новая ара в истории хирургии началась только после введения в медицинскую практику антисептики. Еще в 40-х гг. 19 в. акушеры О. Холмс (1809—1894) и И. Земмельвейс (1818—1865) использовали с этой целью хлорную известь. Метод обеззараживания ран применял Н.И. Пирогов. Под влиянием работ Л. Пастера английский хирург Дж. Листер предложил свой способ предохранения ран от нагноения («ничто не должно касаться раны, не будучи обеспложенным») с помощью карболовой кислоты (1867). Метод Дж. Листера постепенно получил общее признание. Внедрение антисептического метода дало возможность предотвращать в хирургических учреждениях повальное распространение госпитальной гангрены, рожи, сепсиса, которые уносили мною жизней и были страшным бичом в доантисептическую эру. Под защитой антисептики расширились возможности оперативных вмешательств, развилась полостная хирургия, были предложены многочисленные операции почти на всех органах. В конце 80-х гг. 19 в. метод Дж. Листера был дополнен физическими способами стерилизации.
Разумеется, и до открытия наркоза и антисептики развитие хирургии в 19 в. было отмечено значительными достижениями, главным образом разработкой семиотики заболеваний и техники оперативных вмешательств, связанными с деятельностью французской школы хирургов во главе с Г. Дюпюитреном (1777—1835); основоположника научной хирургии в Германии Б. Лангенбека (1810—1887), по имени которого названы многие операции; английского хирурга Э. Купера (1768—1841), известного благодаря предложенным им операциям перевязки общей сонной артерии, аорты, грыжесечения и разработке хирургического инструментария.
Н.И. Пирогов положил начало анатомо-физиологическому и клинико-экспериментальному направлениям в хирургии, разработал основы топографической анатомии и оперативной хирургии, внес основополагающий вклад в развитие военно-полевой хирургии, разработал ряд костно-пластических и других операций, оказав существенное влияние на мировую хирургию. Однако только в последней четверти 19 в. на основе указанных выше открытий начался прогресс в хирургии, прежде всего брюшной полости, родоначальником которой является немецкий хирург Т. Бильрот (1829—1894). В 1881 г. он впервые успешно выполнил резекцию желудка по поводу рака (операция Бильрот I).
Ученик Т. Бильрота И. Микулич (1850—1905) разработал технику многих операций, в т.ч. одновременно с Т. Кохером он создал метод хирургического лечения эндемического зоба. Ученик Б. Лангенбека Ф. Эсмарх (1823—1908) заложил в Германии основы военно-полевой хирургии: он предложил в 1873 г. ввести операции на конечностях, обескровленных с помощью жгута; доказал преимущество резекции и артротомии при огнестрельных ранениях по сравнению с ампутациями. Представитель этой школы Т. Кохер (1841—1917) разработал оперативные доступы ко всем крупным суставам, радикальную операцию паховой грыжи, метод вправления вывиха плеча и др. Он ввел ряд новых инструментов (кровоостанавливающий зажим, желобоватый зонд, желудочный зажим и др.), многие из которых стали называться его именем.
Французский хирург Ж. Пеан (1830—1898) предложил останавливать кровотечение из перерезанных при операциях кровеносных сосудов путем сдавления их просветов с помощью пинцетов (пеаны) с последующей перевязкой. Французский хирург Э. Дуайен (1859—1916) разработал операцию удаления матки через влагалище и предложил ряд хирургических инструментов, которые носят его имя (реберный распатор, кишечный жом и расширитель-заслонка для раны при операциях в полости малого таза); он впервые применил в 1898 г. кинематографические съемки в преподавании хирургии. С введением в практику антисептики и асептики широко распространились урологические операции. С конца 19 в. от общей хирургии и терапии отпочковалась и стала развиваться как самостоятельная научная дисциплина урология.
На рубеже 19—20 вв. достижения физики, в частности открытие рентгеновских лучей, и химии, технический прогресс, расцвет физиологии создали предпосылки для дальнейшего развития клинической М. как области естественных наук.
Конец 18 — первая половина 19 в. характеризуется становлением общественной и экспериментальной гигиены.
Первые серьезные попытки осуществления гигиенических мероприятий в целях охраны здоровья трудящихся были предприняты в самом конце 18 в. в наиболее развитом промышленном центре текстильной промышленности — Манчестере Т. Персивалем (1740—1804), Дж. Ферриером (1763—1815) и др. В 1796 г. ими было создано Манчестерское санитарное бюро — первая общественная организация, ставившая своей задачей оздоровление условий труда и быта, а также законодательное ограничение эксплуатации рабочих. Одним из наиболее существенных результатов деятельности Манчестерского санитарного бюро явился первый фабричный закон, принятый в 1802 г. Хотя он практически игнорировался предпринимателями, его социально-гигиеническое значение велико, т.к. это была первая попытка законодательного ограничения капиталистической эксплуатации в целях охраны здоровья рабочих. В 1832 г. в результате развившихся противоречий между землевладельческой аристократией и промышленной буржуазией был принят парламентский билль об исследовании состояния фабрик, создавший благоприятные условия для исследований в неразработанной до того времени области фабричной гигиены. В 1842 г. парламентом был принят акт, запретивший ночную работу подростков и детей, значительно ограничивший их дневной труд и установивший впервые правительственную фабричную инспекцию. Одним из зачинателей и выдающихся деятелей английской фабричной инспекции был Л. Хорнер, боровшийся за сокращение рабочего дня, введение приспособлений для защиты рабочих от несчастных случаев, общее и профессиональное образование детей рабочих, за установление ответственности фабрикантов за увечья, полученные на производстве. Исследования Э. Гринхау (1814—1888) показали неблагоприятное состояние здоровья в фабричных округах но сравнению с «земледельческими округами с нормальным состоянием здоровья». Позже были проведены важные исследования в области эпидемиологии, коммунальной и пищевой гигиены. Была создана крупная школа английских санитарных врачей: Т. Смит (1788—1861), Дж. Саймон (1816—1904) и др., работы которых способствовали расширению и углублению знаний об условиях общественного здоровья, мерах оздоровления населения, прежде всего рабочих. Большой вклад в развитие общественной гигиены и разработку санитарных законов на основе санитарных исследований внес Э. Чедвик (1800—1890), который не был врачом по образованию. Он принял участие в работе по проведению в жизнь «закона о бедных» и в изучении условий детского труда на фабриках, настойчиво предлагал ввести инспекцию и ограничить применение детского труда. По его инициативе в 1838 г. был проведен закон (Registration Act), устанавливавший систему точных отчетов о родившихся и умерших, и учреждена должность главного регистратора. Занявший этот пост В. Фарр (1807—1883) явился одним из лучших исследователей этих отчетов и подметил целый ряд закономерностей в течении некоторых эпидемий. Из других заслуг Э. Чедвика следует отметить его роль в подготовке закона 1848 г. об устранении санитарных вредностей и предупреждении заболеваний, по которому в случае поступления жалоб отдельных лиц и учреждений на санитарные недочеты специальные местные власти должны были принимать энергичные меры. Назначенные в связи с этим первые санитарные врачи (Дж. Саймон и др.) продолжали дальнейшие исследования и публикацию отчетов. Дж. Саймону принадлежит разработка таблицы смертности рабочих, иллюстрирующей влияние условий груда в мастерских на состояние заболеваемости и смертности. Ученики и сотрудники Дж. Саймона внесли значительный вклад в дело развития санитарных исследований как в области методики, так и в отношении вскрытия социальных факторов здоровья.
В Англии в 50-х гг. появилось первое сочинение по гигиене, в котором наряду с результатами простого и статистического наблюдения приводились и экспериментальные данные. Это сочинение принадлежало английскому ученому Э. Парксу (1819—1876). Впервые он применил физический, химический и микроскопический способы исследования окружающей среды — воздуха, воды, почвы и т.д. Сочинение Э. Паркса вместе с тем представляло удачное сочетание экспериментальной и общественной гигиены благодаря использованию санитарной статистики.
Во Франции Ж. Герен — последователь утопического социализма — сформулировал концепцию социальной гигиены. Влияние взглядов социалистов-утопистов сказалось в том, что и Ж. Герен, и другие врачи возлагали на врача и на социальную М. основную социальную миссию по переустройству общества. В марте 1848 г. Ж. Герен опубликовал свою концепцию «социальной медицины», под которой подразумевал все аспекты, касавшиеся многочисленных связей между М. и общественной деятельностью. Он считал, что расплывчатые и несогласованные понятия «медицинская полиция», «общественное здравоохранение» и «судебная медицина» должны быть заменены понятием «социальная медицина», которое объединяет в единое целое социальные аспекты медицинской деятельности, лучше и четче выражает цели и значение этой деятельности. Современники Ж. Герена и его коллеги высказывали подобные же взгляды, считая, что социальная М. основывается на данных опыта и наблюдений. Они придавали большое значение статистике как неотъемлемой части социальной М., советовали врачам заниматься политической экономикой, чтобы быть настоящими государственными деятелями. Требования Ж. Герена и других французских врачей — участников революции 1848 г., поставленные ими социально-гигиенические проблемы были подхвачены многими передовыми врачами в других странах, где в определенные исторические периоды создавались подобные ситуации, и оказывали большое влияние на развитие социально-гигиенической мысли в течение всего 19 в.
Во Франции в первой половине 19 в. появился ряд работ социально-гигиенического содержания, явившихся результатом официальных обследований или наблюдений отдельных ученых и основывавшихся на применении статистического метода изучения проблем здоровья. Наиболее крупным ученым среди авторов этих исследований был Л. Виллерме (1782—1863), опубликовавший в 1840 г. исследование положения рабочих текстильной промышленности, способствовавшее принятию в 1841 г. во Франции закона, регламентировавшего труд детей.
Влияние французских революций первой половины 19 в. особенно ощущалось в Германии, где период революционной ситуации 1848—1849 гг. составил важный этап в истории социально-гигиенической мысли. Он был связан с деятельностью С. Нейманна и молодого Р. Вирхова, которые ясно понимали значение социальных факторов для здоровья. Они исходили из того, что здоровье народа должно быть предметом заботы государства, что социальные и экономические условия оказывают важное, а во многих случаях решающее влияние на здоровье и болезнь и что меры по укреплению здоровья и борьбе с болезнями должны быть как социальными, так и медицинскими. Подобные взгляды С. Нейманн развивал в своей основной работе «Общественное здравоохранение и собственность» (1847). Он предлагал проведение социально-гигиенических исследований и особенно настаивал на развитии санитарной статистики, требовал надежных статистических данных, чтобы ответить на вопрос о влиянии богатства и бедности на состояние здоровья. Итогом этого периода развития социальной гигиены в Германии следует считать социально-гигиенические работы и деятельность Р. Вирхова в 1848—1849 гг. В эти годы Р. Вирхов вместе с Р. Лейбушером основал и издавал газету «Медицинская реформа», со страниц которой боролся за медицинскую реформу в Германии, т.е. за изменение статуса медицинской профессии в обществе, за определение нового значения деятельности врача соответственно изменившимся социально-экономическим условиям и необходимости решения серьезных проблем общественного здравоохранения в связи с развитием капиталистической промышленности.
Развитие экспериментального направления в гигиене в Германии связано с деятельностью ученика Ю. Либиха, создателя немецкой школы гигиенистов М. Петтенкофера (1818—1901). Он ввел экспериментальный метод в гигиеническое изучение важнейших факторов окружающей среды (воздуха, воды, почвы), предложил использовать СО2 в качестве индикатора чистоты воздуха жилых помещений, нормативы для определения объема вентиляционного воздуха, установил гигиенические требования к строительным материалам и одежде. М. Петтенкофер сконструировал в 1861 г. респираторный аппарат, с помощью которого изучил газообмен у человека и животных; совместно с К. Фойтом разработал гигиенические нормы питания. Его исследования по гигиене почвы и ее самоочищению послужили научной основой мероприятий по очистке городов, что способствовало снижению заболеваемости и смертности в Германии и Англии. Эти исследования получили развитие в трудах немецкого гигиениста К. Флюгге (1847—1923). Важное значение имели его работы о микроклимате жилищ в связи с изучением влияния летней жары на смертность грудных детей, о стерилизации молока, гигиенической оценке питьевой воды, вентиляции, теплорегуляции. По инициативе М. Петтенкофера начались экспериментальные исследования по промышленной токсикологии. С 1884 г. за продолжение этих опытов взялся К. Леманн (1858—1940) — один из основателей профессиональной токсикологии. Им и его школой были подвергнуты количественному исследованию около 35 газов и паров, причем для контроля служили длительные опыты в фабричных условиях и в некоторых случаях лабораторные исследования на человеке.
Пользуясь физиологическими методами исследования, немецкие гигиенисты М. Рубнер и К. Флюгге заложили научные основы санитарной оценки воздуха, воды, почвы, жилища и одежды. Значительные успехи были достигнуты в области гигиены труда и профессиональной патологии. В 1882—1894 гг. вышло в свет первое крупное руководство по профессиональным болезням под редакцией М. Петтенкофера и клинициста Г. Цимссена.
В 80-х гг. 19 в. развитие гигиены во многом зависело от успехов бактериологии. Прежде всего была обоснована дезинфекция, стала применяться фильтрация воды. Бактериологические методы начали использовать для оценки качества питьевой воды, были выработаны способы контроля молока (при вскармливании детей) и других питательных веществ и предметов потребления. Благодаря бактериологии стали возможными исследования воздуха, сточных каналов, воздуха школьных помещений, обнаружение патогенных бактерий в пище и почве и т.д.
Труды М. Петтенкофера, К. Прауснитца в Германии, Э. Паркса в Англии, З. Флери во Франции, а также русских гигиенистов А.П. Доброславина, Ф.Ф. Эрисмана, В.А. Субботина, А.И. Якобия, И.П. Скворцова, Г.В. Хлопина и др. послужили научной базой гигиены. Совершился переход от общих описаний к точному количественному и качественному изучению (с применением физических, химических, биологических и других методов) влияния различных факторов окружающей среды на здоровье человека.
Медицина 20 века
Последняя четверть 19 — первая половина 20 в. ознаменованы бурным развитием естественных наук. Во всех областях естествознания были совершены фундаментальные открытия, коренным образом изменившие сложившиеся ранее представления о сущности процессов, происходящих в живой и неживой природе. На основе новых категорий и понятий, применения принципиально новых подходов и методов были выполнены важные исследования, раскрывающие сущность отдельных физических, химических и биологических процессов и механизмы их осуществления. Произошли коренные изменения в развитии, характере и соотношении научных знаний.
Влияние физики, химии и биологии на медицину. Теоретические основы медицины. Конец 19 — начало 20 в. обычно характеризуется как период революции в естествознании. Первый ее этап был связан с величайшими открытиями в области физики. В 1895 г. немецкий физик В. Рентген открыл рентгеновское излучение, обладающее свойством проникать через различные материалы, в т.ч. и через мягкие ткани человеческого тела. Теория и практика использования рентгеновского излучения для исследования организмов человека и животных составили предмет самостоятельной медицинской дисциплины — рентгенологии. Рентгеновское излучение нашло широкое применение в М. для распознавания различных травм и заболеваний человека, а также в качестве лечебного метода. Позднее (уже во второй половине 20 в.) на основе успехов рентгенологии в сочетании с достижениями в области вычислительной техники был разработан чрезвычайно прогрессивный метод диагностики — компьютерная томография. На базе рентгеновского излучения были разработаны методы исследования структуры вещества с помощью рентгеноструктурного анализа, рентгеновской спектроскопии, рентгеновской микроскопии, что позволило раскрыть многие тайны природы.
Другое крупнейшее открытие в области физики было сделано в 1896 г., когда французский физик А. Беккерель обнаружил явление радиоактивности. Работами М. Склодовской-Кюри и П. Кюри, а также исследованиями английского физика Э. Резерфорда было установлено наличие двух видов излучения (α- и β-излучения) и выявлена их природа. Открытие и изучение радиоактивности оказали большое влияние на развитие биологии и медицины. Сформировались радиобиология — наука о действии всех видов ионизирующих излучений на живые организмы; медицинская радиология, изучающая возможности использования ионизирующего излучения для диагностики и лечения ряда заболеваний. Первой крупной монографией, посвященной этим дисциплинам, стала книга русского ученого Е.С. Лондона «Радий в биологии и медицине» (1911). Второй этап революции в естествознании начался с середины 20-х гг. в связи с созданием квантовой механики, теории относительности и квантово-релятивистской концепции английского физика П. Дирака. Была выявлена новая, отличная от механистической, форма причинной обусловленности в микромире. В середине 20-х гг. было открыто мутагенное действие ионизирующих излучений, что способствовало дальнейшему развитию радиобиологии и положило начало новой научной дисциплине — радиационной генетике. В конце 20-х гг. возникло представление о наличии в живой клетке особого чувствительного объекта — мишени, попадая в которую ионизирующие частицы приводят к гибели клетки.
В 70—80-е гг. в клиническую практику стали внедряться новые способы лучевой диагностики — компьютерная томография, динамическая радионуклидная сцинтиграфия, термография, ультразвуковое исследование, ядерно-магнитно-резонансная интроскопия, эмиссионная компьютерная томография. Эти способы основаны на применении различных по природе излучений, в т.ч. ультразвуковой частоты и длинноволновых электромагнитных, лежащих в инфракрасном (термография) и радиочастотном (ядерно-магнитно-резонансная интроскопия) диапазонах. Применение ЭВМ позволило создать способ дигитальной (вычислительной, числовой) радиографии, используемый преимущественно при ангиографии. Начата разработка нового способа исследования химического состава тканей и органов (щитовидной железы и др.) — рентгенофлюоресцентного анализа.
Третий этап революции в естествознании связан с развитием ядерной физики и применением во всех отраслях учения о природе понятий и методов, созданных при изучении атома и атомного ядра. В 1934 г. Ирен Жолио-Кюри и Фредерик Жолио-Кюри открыли искусственную радиоактивность. К концу 30-х гг. физика вплотную подошла к решению проблемы получения энергии за счет деления ядер урана. В 1938 г. немецкие ученые О. Ган и Ф. Штрассман обнаружили эффект деления атомного ядра при его бомбардировке нейтронами. В 1942 г. итальянский физик Э. Ферми, работавший в США, впервые экспериментально осуществил ядерную цепную реакцию. Огромным достижением науки и техники явилось создание ядерных реакторов, в которых осуществляется управляемая ядерная цепная реакция, сопровождающаяся выделением энергии. Первый атомный реактор построен в 1942 г. в США под руководством Э. Ферми. В Европе первый ядерный реактор был сооружен в 1946 г. в Москве под руководством И.В. Курчатова. В 1954 г. в СССР вступила в строй первая в мире атомная электростанция. Развитие ядерной физики, техники и энергетики, а также проблема защиты окружающей среды от радиоактивного загрязнения вследствие непрекращающихся испытаний ядерного оружия и аварий, происходящих на атомных электростанциях, способствовали появлению новых научных направлений и разделов радиобиологии и медицины. Резко возросла актуальность распознавания и терапии лучевого поражения, изыскания различных средств защиты от ионизирующих излучений. Возникла новая научная дисциплина радиационная гигиена. Огромную роль в научно-технической революции, серьезно изменившей лицо М. во второй половине 20 в., сыграла электроника. Ее развитие привело к созданию многочисленных методов исследования функций человеческого организма, что в ряде случаев позволило принципиально по-новому интерпретировать давно известные факты. Так, появились методы измерения и регистрации степени насыщения крови кислородом (оксиметрия и оксиграфия), деятельности сердца (динамокардиография, баллистокардиография), биоэлектрических потенциалов в клетке (микроэлектродная техника) и др. В связи с разработкой методов рентгеноэлектрокимографии, электрорентгенографии, рентгенотелевидения, рентгенокинематографии значительно расширились возможности рентгенологии. Радиотелеметрия, созданная в 50-х гг. на основе достижений радиоэлектроники. позволила начать изучение процессов, происходящих в полостях тела, например в пищеварительном тракте, с помощью радиозондов, а также вести регулярные наблюдения с Земли за сердечной деятельностью, дыханием, кровяным давлением и другими функциями космонавтов в процессе космического полета.
В 1931 г. немецкие ученые М. Кнолль и Э. Руска создали электронный микроскоп, обладающий огромной по сравнению с обычным микроскопом разрешающей способностью и позволяющий визуально изучать вирусы, бактериофаги и получать увеличенные в сотни тысяч раз изображения мельчайших объектов.
Революция в естествознании органически слилась с революцией в технике. Научно-техническая революция (НТР) превратила науку в ведущий фактор развития общественного производства, в непосредственную производительную силу. Она вызвала крупные изменения в структуре и содержании научно-технической деятельности во взаимодействии науки и общества, в динамике экономических и социальных процессов, привела к резкому ускорению научно-технического прогресса.
Научная революция вызвала значительные изменения в традиционной структуре наук и создала предпосылки для появления новых организационных форм исследовательской работы. Углубился процесс дифференциации науки, и вместе с тем в ней усилились интеграционные процессы и взаимопроникновение отдельных отраслей. Новые аспекты исследования биологических явлений создали условия для возникновения и развития научных дисциплин и более узких специальностей на стыке физики, химии и биологии (биохимия, биофизика, радиационная биология, радиационная гигиена, космическая биология и медицина, молекулярная биология и др.). В биологических и медицинских исследованиях все шире используются методы прикладной математики, физики, химии; постоянно возрастает их техническая оснащенность.
Начиная с 20-х гг. широкое применение в физиологии и М. получила электронно-лучевая осциллография, способная визуально воспроизводить быстрые биоэлектрические колебания. С помощью этого метода американские ученые Г. Гассер, Дж. Эрлангер и др. впервые описали электрические потенциалы, возникающие при возбуждении периферических нервов. Английские физиологи А. Ходжкин, А. Хаксли, исследуя физико-химические изменения при передаче нервного импульса, в 1939 г. с помощью введенных внутрь клетки электродов впервые измерили величину потенциала клетки, находящейся в состоянии полного покоя, а в 50—60-е гг. теоретически и экспериментально доказали, что возникновение биопотенциалов связано с избирательной проницаемостью клеточной мембраны для различных ионов.
Новое направление в изучении физико-химических основ жизненных процессов связано с созданием шведским химиком С. Аррениусом теории электролитической диссоциации и фундаментальными исследованиями в области теории растворов немецкого ученого В. Оствальда и голландского химика Я. Вант-Гоффа. Ими была показана возможность возникновения значительной разности потенциалов по обе стороны полупроницаемой мембраны, в т.ч. и биологической, если поместить ее на пути диффундирующего электролита. На этой основе В. Оствальд и немецкий физиолог Ю. Бернштейн разработали мембранную теорию возникновения биопотенциалов, исходящую из избирательной проницаемости клеточной мембраны для ионов противоположных зарядов. Немецкий химик В. Нернст сформулировал в 1908 г. количественный закон возбуждения: порог физиологического возбуждения определяется количеством переносимых через мембрану ионов.
Большой вклад в изучение физико-химических механизмов процессов возбуждения, деления клеток, реакций организма на воздействие внешних факторов (температуру, освещенность, электрическое поле) внесли исследования школы американского биолога Ж. Леба. На основе идей физико-химической целостности биологических объектов Ж. Леб создал теорию антагонизма ионов различной валентности и показал роль этого антагонизма в биологических процессах. Он впервые установил наличие характерных изменений электропроводности при возбуждении и повреждении клеток и возможность оценивать по ней физико-химическое состояние клеток и их жизнеспособность.
Уже в первом десятилетии 20 в. были предприняты попытки использовать достижения физической и коллоидной химии для понимания патологических процессов. В частности, немецкий химик Г. Шаде предложил теорию молекулярной патологии, согласно которой под влиянием патологических воздействий возникают нарушения молекулярных ультраструктур. На основе этой теории Г. Шаде пытался объяснить молекулярные механизмы таких процессов, как обмен воды и электролитов в тканях, явления тканевой проницаемости, набухания тканей, отека и др. Аналогичными проблемами занимался в 20-х гг. американский исследователь О. Фишер, который считал, например, что патогенез отека сводится к коллоидно-химическим нарушениям.
Большую роль в изучении состава живых организмов, структуры, свойств и локализации обнаруживаемых в них соединений, путей и закономерностей образования этих соединений, последовательности и механизма превращений, а также их биологическую и физиологическую роли сыграли УФ-микроскопия с фотометрией, рефрактометрия и т.д.
В первой половине 20 в. были сделаны кардинальные открытия, позволившие построить общую схему обмена веществ, установить белковую природу ферментов и исследовать их важнейшие свойства. К началу 30-х гг. благодаря работам немецкого ботаника Р. Вильштеттера и шведского ученого У. Эйлера стало ясно, что некоторые ферменты построены из белковой части (апофермента) и небелковой простетической группы (кофермента). Американский биохимик Дж. Самнер впервые в 1926 г. выделил в кристаллическом состоянии фермент уреазу методом осаждения сернокислым аммонием (высаливания) при низкой температуре; позднее Дж. Нортропом были выявлены пепсин (1930) и трипсин (1932). Эти работы указали путь (вернее, один из путей) получения высокоочищенных кристаллических ферментных препаратов и неопровержимо доказали их белковую природу.
Основную роль в изучении аминокислотного состава белков сыграл разработанный в 1901—1913 гг. русским ученым М.С. Цветом метод хроматографического анализа. Метод хроматографии на бумаге, служащий для разделения веществ, весьма близких по химическим свойствам, произвел революцию в аналитической биохимии. Для выяснения некоторых свойств различных белков большую роль сыграли изучение особенностей их движения в поле постоянного электрического тока, а также рентгеноструктурный анализ, ультрацентрифугирование и электронное микроскопирование. Благодаря изобретению аналитической ультрацентрифуги русским ученым А.В. Думанским и шведским физиком Т. Сведбергом, а также благодаря разработке различных методов выделения и фракционирования белков удалось расшифровать структуру и молекулярный состав ряда белков и полипептидов. Английский ученый Ф. Сангер явился основоположником современной структурной химии белка. Им, в частности, установлено строение инсулина (1945—1956). Эти исследования позволили решить проблему связи между структурой белковой или полипептидной молекулы и ее биологической функцией, а также стимулировать развитие новой отрасли науки — молекулярной биологии.
В 30-х гг. возникла как самостоятельная наука цитохимия. В течение 60—70-х гг. было обнаружено, что хромосомы состоят из белковой основы и дезоксирибонуклеиновой кислоты, что последняя является материальным носителем наследственной информации и с дефектами в строении ее молекулы связаны так называемые молекулярные болезни. Исследования в этом направлении привели к возникновению новой дисциплины — молекулярной генетики, позволившей разгадать природу ряда наследственных болезней и найти пути коррекции многих из них, например галактоземии, фенилкетонурии и др.
Английский биохимик X. Кребс предложил в 1937 г. схему цикла превращения органических кислот (так называемый цикл Кребса), который связал процессы поэтапного окисления органических веществ и выделения энергии в организме. Одним из следствий этого открытия был поворот от представлений о биохимических процессах в клетке как изолированных реакциях к представлениям о единой системе процессов обмена веществ, связанных между собой во времени. В 1937 г. советским биохимиком А.Е. Браунштейном (1902—1986) был открыт процесс трансаминирования и осуществляющие его ферментные системы (аминотрансферазы), что позволило связать воедино систему превращений отдельных аминокислот с циклом трикарбоновых кислот. В 40-е и последующие годы благодаря работам советских ученых В.А. Энгельгардта (1894—1984) и М.Н. Любимовой, обнаруживших, что миозин ответственен за трансформацию химической энергии АТФ в механическую работу мышц, выяснилось, что трансформация энергии в клетке осуществляется при участии нерастворимых белковых комплексов, которые обычно встроены в мембраны тех или иных субклеточных образований. Многочисленными исследованиями было установлено, что большинство патологических процессов связано с нарушениями энергетического обмена на молекулярном и субмолекулярном уровнях.
В особое направление биохимии выделилась медицинская химия. Усилиями ряда ученых разных стран были разработаны методы определения биологически значимых веществ в малых количествах исследуемого субстрата (крови, сыворотки крови и т.д.), что позволило получить данные о химическом составе и обмене ряда важнейших веществ в органах и тканях и использовать результаты в теоретической медицине.
В 20 в возникло учение о витаминах. Впервые вещества, названные впоследствии витаминами, были обнаружены в 1880 г. отечественным ученым Н.И. Луниным. Однако только с развитием биохимии и науки о питании внимание врачей при изучении таких заболеваний, как цинга, бери-бери, пеллагра, было обращено на состав пищи населения. Голландский врач X. Эйкман в 1897 г. опубликовал свои наблюдения полиневрита у кур, которых кормили исключительно полированным рисом. В это же время на острове Ява наблюдались массовые заболевания бери-бери среди заключенных, питавшихся главным образом полированным рисом. В 1912 г. польский биохимик К. Функ выделил из рисовых отрубей тиамин — вещество, добавление которого в пищу излечивало больных бери-бери. Это вещество, обладавшее свойствами аминов, было названо К. Функом витамином. В 1928 г. венгерский ученый А. Сент-Дьердьи выделил витамин С. За этим открытием последовали другие, которые не только подтвердили важную роль витаминов в обеспечении функционирования различных ферментных систем, но позволили расшифровать биохимический механизм многих заболеваний (гипо- и авитаминозов), найти пути их предупреждения и разработать методы синтетического получения некоторых витаминов. Исследования по витаминологии внесли большие изменения в представления о ценности различных пищевых продуктов, позволили установить роль витаминов в сопротивляемости организма, обмене веществ. В частности, было показано, что многие витамины являются коферментами ряда ферментных систем.
С первой половины 20 в. в крупном масштабе началось производство и применение синтетических медикаментов, действующих на патогенные микроорганизмы. В 1910 г. немецкий ученый П Эрлих в сотрудничестве с японским ученым С. Хатой доказал возможность синтеза по заданному плану препаратов, способных воздействовать на возбудителей заболеваний, и тем самым заложил основы нового раздела фармакологии — химиотерапии. В 1909 г. в поисках средства против сифилиса ими был синтезирован сальварсан, что послужило началом синтеза целого ряда других препаратов на основе производных мышьяка, давших положительные результаты при лечении ряда паразитарных заболеваний. В 1926 г. был создан первый синтетический противомалярийный препарат плазмохин. Крупнейшее открытие в области химиотерапии было сделано в 1935 г. Г. Домагком (1895—1964), который установил, что производное сульфаниламида пронтозил предохраняет мышей от летальных доз гемолитического стрептококка. Он первый обосновал применение сульфаниламидных соединений при кокковых инфекциях.
Интенсивно шли поиски антибактериальных средств растительного и животного происхождения. В 1929 г. английский ученый А. Флеминг установил, что один из видов плесневого грибка рода Penicillium выделяет антибактерийное вещество, названное пенициллином. Английские ученые Г. Флори и Э. Чейн разработали методы получения стабильного пенициллина, его концентрации и очистки. В 1941—1943 гг. Г. Флори совместно с М. Флори были проведены клинические испытания, доказавшие эффективность пенициллина при стафилококковом и стрептококковом сепсисе, гонококковой и менингококковой инфекции. В 1943—1944 гг. в США было налажено промышленное производство пенициллина. В СССР, независимо от английских ученых, пенициллин был получен в 1942 г. З.В. Ермольевой и Т.И. Балезиной. В 1943 г. американский ученый З. Ваксман получил стрептомицин, который начал применяться для лечения туберкулеза. Началась эра антибиотиков.
Существенное влияние на развитие медицины 20 в. оказали достижения в области биологии и, в первую очередь, генетики, теоретические основы которой были заложены в 19 веке Г. Менделем. Он открыл и сформулировал (1865) основные законы наследственности, которые раскрыли в то же время и один из важных механизмов изменчивости, а именно — механизм сохранения приспособительных признаков вида в ряде поколений.
В 1900 г. голландский ботаник X. де Фрис и почти одновременно с ним немецкий ботаник К. Корренс и австрийский ученый Э. Чермак вторично открыли законы Менделя. В 1900 г. австрийский иммунолог К. Ландштейнер открыл группы крови и описал первый дискретный признак человека, ныне рассматриваемый как пример наследственного полиморфизма и применимости законов Менделя к человеку. В 1901 г. X. де Фрис ввел термин «мутация», хотя само явление внезапного возникновения наследственных изменений было известно еще Ч. Дарвину. В 1906 г. на III Международном конгрессе по гибридизации наука, изучающая наследственность и изменчивость, была названа генетикой. В 1909 г. датский биолог В. Иогансен назвал предложенный Г. Менделем фактор наследственности геном. Совокупность всех генов он предложил называть генотипом, а совокупность всех признаков организма — фенотипом. Американский ученый Т. Морган и его сотрудники в 1911 г. экспериментально доказали, что основными носителями генов являются хромосомы.
В начале 20 в. получил развитие новый раздел генетики — генетика человека. Изучая алкаптонурию и некоторые другие наследственные болезни, А. Гаррод в 1908 г. сформулировал положение о врожденных дефектах обмена. В том же 1908 г. английский ученый Дж. Харди и немецкий ученый В. Вейнберг независимо друг от друга сформулировали основные положения популяционной генетики. Они показали, что при отсутствии факторов, нарушающих равновесие, частота генов (и признаков, контролируемых этими генами) остается неизменной из поколения в поколение, и установили соотношение между частотами генов и генотипов в популяции со свободным скрещиванием. В 20— 30-х гг. были разработаны статистические методы изучения генетики человека, что явилось большим вкладом в теорию популяционной генетики и эволюции.
В то же время в методологическом плане изучение расположения генов в хромосомах, проводившееся школой Т. Моргана, и анализ комбинирования генов при скрещивании различных организмов велись раздельно. Генетики на первых порах не видели четких связей между этими двумя направлениями генетических исследований. Не способствовало их объединению и изучение мутаций, а также частоты встречаемости их в естественных условиях. Более того, основатели мутационной теории противопоставляли процесс возникновения мутаций эволюционному учению Ч. Дарвина. В этой связи значительным вкладом в развитие генетики с позиций эволюционного учения стала теоретическая работа советского генетика С.С. Четверикова, доказавшего в 1926 г., что именно мутации, возникающие в естественных условиях, служат основным материалом для естественного отбора. Большую роль для понимания возможности мутационного процесса и типов возникающих мутаций сыграл сформулированный советским генетиком Н.И. Вавиловым закон гомологических рядов наследственной изменчивости.
В генетических исследованиях до 1925 г. использовались мутанты, встречающиеся в естественных условиях. Хотя Т. Морган, Н.К. Кольцов и некоторые другие генетики понимали, что мутации можно вызвать искусственно, многочисленные попытки осуществить это экспериментально долгое время оказывались безуспешными. Лишь в 1925 г. советские ученые Г.А. Надсон и Г.С. Филиппов, а в 1927 г. американский генетик Г. Меллер доказали возможность искусственного получения мутационных форм путем рентгеновского облучения. В 1928 г. советский генетик М.Н. Мейсель показал способность химических агентов вызывать мутации у дрожжей. В 1932 г. явления химического мутагенеза у дрозофилы наблюдал советский генетик В.В. Сахаров (1902—1969).
В результате многочисленных генетических исследований уже в конце 20-х гг. особенно остро встал вопрос о том, что же представляет собой ген как структурная единица наследственности и какова его химическая природа. Попытки найти ответ на первый вопрос были предприняты Т. Морганом, советскими учеными А.С. Серебровским, Н.П. Дубининым, Н.В. Тимофеевым-Ресовским, А.А. Прокофьевой-Бельговской и др. Было установлено, что каждый ген определяет развитие определенного признака и является минимальной частью хромосомы, которая может быть передана в другую хромосому в процессе кроссинговера. Экспериментальные исследования, проведенные в 1929—1934 гг. А.С. Серебровским и Н.П. Дубининым показали, что ген может быть разделен на отдельные участки (центры), мутирующие раздельно. В середине 30-х гг. Н.П. Дубининым была сформулирована так называемая центровая теория гена, согласно которой ген состоит из отдельных, расположенных в линейном порядке частей; эти части гена могут независимо друг от друга изменяться (мутировать); функциональные возможности гена в целом обусловлены согласованной суммой функций отдельных его частей. Вплоть до 30—40-х гг. большинство биологов и генетиков связывали генетические функции с белком. Лишь в середине 40-х гг. появились первые экспериментальные исследования, расшифровавшие природу «наследственных молекул». В 1944 г. О. Эйвери, К. Мак-Лауд и М. Мак-Карти пришли к выводу, что материальную основу наследственности для Diplococcus pneumoniae составляют молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты. Позднее было установлено, что ДНК (а для некоторых вирусов и РНК) составляет материальную природу наследственности всех организмов.
Значительный прогресс в понимании функции гена был достигнут благодаря исследованиям американских генетиков и биохимиков Дж. Бидла, Э. Тейтема и Дж. Ледерберга в области генетического контроля метаболизма, физических и химических основ наследственности. Эти исследователи в 1941—1947 гг. показали, что большинство генов контролирует синтез ферментов: мутации генов выражаются в изменении или потере активности контролируемых ими ферментов. Дж. Бидл и Э. Тейтем выдвинули положение «один ген — один фермент» (для каждого белка существует ген, контролирующий его структуру и активность). Однако в конце 70-х гг. были получены данные, ставящие под сомнение это утверждение американских ученых, которое в течение почти 30 лет казалось бесспорным.
Качественно новый этап в изучении физико-химических основ жизнедеятельности наступил в 40—50-х гг. в связи с разработкой новых методов исследования биологических объектов на молекулярном уровне и возникновением молекулярной генетики и молекулярной биологии. Наряду с развитием электронной микроскопии большую роль в развитии этих наук сыграли методы выделения и фракционирования субклеточных структур и отдельных клеточных элементов и особенно — метод рентгеноструктурного анализа.
Термин «молекулярная биология» впервые применил для названия новой науки английский ученый В. Астбери в начале 40-х гг. Формальной датой возникновения молекулярной биологии считают 1953 г., когда Дж. Уотсон (родился в 1928 г.) и Ф. Крик (родился в 1916 г.) установили структуру ДНК и высказали подтвердившееся позже предположение о механизме ее репликации, лежащей в основе наследственности. В 1954 г. американский физик Г. Гамов сформулировал проблему генетического кода в ее современном виде. В 1957 г. Ф. Крик высказал гипотезу о взаимодействии рибосомы (специфической органеллы клетки, на которой синтезируется белок) не непосредственно с матричной нуклеиновой кислотой, а через особые виды нуклеиновых кислот, позже названные транспортными (тРНК). В 1957 г. советские ученые А.Н. Белозерский и А.С. Спирин открыли информационные рибонуклеиновые кислоты. В 1968 г. Г. Коране удалось в лабораторных условиях синтезировать ген, кодирующий аланил-тРНК пекарских дрожжей. В 1972 г. сразу в трех лабораториях США были синтезированы гены, кодирующие структуру гемоглобина животных и человека.
Установление универсальности генетического кода, т.е. факта, что у всех живых организмов включение одних и тех же аминокислот в белковую молекулу кодируется одними и теми же последовательностями нуклеотидов в цепи ДНК, и возможности целенаправленного манипулирования с фрагментами нуклеиновых кислот обусловили формирование генной инженерии, генетической инженерии и биотехнологии. Группа исследователей в США под руководством П. Берга сумела объединить в составе одной молекулы ДНК генетическую информацию из трех источников. Впервые функционально активные молекулы гибридной ДНК удалось сконструировать в США С. Коэну с сотрудниками. Затем были созданы «химерные» плазмиды (т.е. не способные возникать в природных условиях). В 1971 г. американский исследователь Р. Меррил с соавторами сообщил об опытах по исправлению наследственного дефекта — галактоземии путем введения в «больные» клетки галактозных генов бактерии, включенных в состав ДНК трансдуцирующего фага. Большие перспективы для развития генной инженерии открыл метод гибридизации соматических клеток, разработанный Б. Эфрусси и Ж. Барски. Совершенствование методов микрохирургии клеток позволило пересаживать клеточные ядра из соматических клеток в оплодотворенные яйцеклетки и получать в результате абсолютно идентичные организмы. В последние 10—15 лет развитие генетической инженерии ознаменовалось созданием продуцентов биологически активных белков — инсулина, интерферона, гормона роста и др., а также разработкой генно-инженерных способов активации тех звеньев обмена веществ, которые связаны с образованием низкомолекулярных биологически активных веществ. Получены продуценты некоторых антибиотиков, аминокислот и витаминов, во много раз более эффективные, чем продуценты этих веществ, выведенные традиционными методами генетики и селекции.
Большое значение для развития молекулярной биологии и медицины имело открытие в 1949 г. американским физиком и химиком Л. Полингом аномального гемоглобина, выделенного из эритроцитов людей с тяжелой наследственной болезнью — серповидно-клеточной анемией. А. Аллисон установил (1954) связь между заболеванием малярией и частотой проявления гена серповидноклеточности в популяции, доказав предположение Э. Форда и Дж, Холдейна о роли инфекционных болезней в формировании генофонда человека. Разработка метода расчета пространственного расположения атомов в молекуле белка позволила рассчитать структуру миоглобина и гемоглобина, что помогло вскрыть механизм возникновения гемоглобина серповидно-клеточной анемии. Тем самым полностью подтвердилось предположение Л. Полинга, что серповидно-клеточная анемия является болезнью молекулярной природы.
Изучение гемоглобина больных позволило установить, что большая часть анемий, распространенных в Центральной и Западной Африке, странах Средиземноморья и некоторых других районах, обусловлена изменением свойств гемоглобина в связи с заменой какой-либо аминокислоты в его молекуле на другую аминокислоту. Всего выявлено около 100 таких мутантных гемоглобинов.
В 1956 г. впервые удалось определить истинное диплоидное число хромосом у человека (46). В 1959 г. впервые было показано, что причина одной из врожденных аномалий человека — болезни Дауна — появление в кариотипе одной лишней хромосомы. В дальнейшем выяснилось, что ряд других заболеваний и расстройств не известной этиологии связан с аномалиями структуры генов, хромосомными аберрациями или количественными изменениями в кариотипе. Успехи генетики помогли понять взаимодействие факторов наследственности и окружающей среды, установить, что условия окружающей среды могут способствовать развитию или подавлению наследственного предрасположения. Были разработаны методы экспресс-диагностики, предупреждения и лечения ряда наследственных заболеваний, организованы медико-генетические консультации.
Широкое использование достижений молекулярной биологии и генетики в целях диагностики, раскрытия патогенеза, лечения и предупреждения болезней человека привело к формированию таких важных разделов медицинской науки, как генетика человека, медицинская генетика, иммуногенетика, фармакогенетика и др. Молекулярная биология и генетика связаны почти со всеми разделами современной М.; их идеи и методы используются не только для изучения наследственных болезней, но и для исследований в области общей патологии, благодаря чему уточняются значение наследственности, роль наследственной предрасположенности при возникновении и развитии различных заболеваний и патологических состояний. Биохимическое и молекулярно-генетическое понимание сущности наследственных болезней привело к разработке ранних и точных методов их диагностики. Для многих форм наследственных заболеваний стала возможна пре- и антенатальная диагностика на уровне первичного дефекта или на начальных этапах нарушения обмена веществ.
Наибольшие успехи в лечении наследственных болезней достигнуты на основе знания механизмов их патогенеза. Существует несколько методов патогенетического лечения. Первый метод — ограничение поступления с пищей вещества, обмен которого в результате наследственной недостаточности фермента приводит к аномальному накоплению токсических для организма продуктов. Второй метод — добавление к рациону вещества, которого в результате наследственной аномалии требуется больше, чем в норме. Третий метод — возмещение несинтезируемых в организме в результате генетической аномалии веществ (например, антигемофильного глобулина при гемофилии, некоторых гормонов при наследственных эндокринных заболеваниях и т.д.). Четвертый метод — удаление токсических продуктов обмена из организма, выведение которых нарушено в результате наследственного генетического блока (например, избыточного количества железа при первичном гемохроматозе, меди — при гепатоцеребральной дистрофии и т.д.). Пятый метод — исключение из употребления некоторых лекарств, например барбитуратов при порфирии.
Более радикальные подходы к восстановлению наследственных нарушений, чем симптоматические и патогенетические, предполагают введение в организм нормального гена вместо мутантного. Это молекулярно-генетическое направление получило название генной инженерии. Исследования в этой области интенсивно проводятся на микроорганизмах, клетках растений, животных и человеке. Доказано, что введенные гены могут нормально функционировать в клетке реципиента.
Революция в естествознании изменила и облик морфологии, которая в 20 в. постепенно превратилась из описательной науки в общебиологическую и экспериментальную, изучающую не только строение организма, органов и тканей человека (животных), но и морфологические основы их взаимодействия. Совершенствование микроскопической техники и развитие новых методов морфологических исследований дали возможность анатомам и патологоанатомам изучать органы и системы вплоть до микроскопического уровня, что способствовало интеграции нормальной и патологической анатомии с гистологией и цитологией.
Широкие перспективы для развития морфологи открыла разработка метода культуры тканей, давшего возможность изучать метаболизм живых клеток многоклеточного организма, функции различных клеток, их реакции на гормоны и лекарственные вещества, межклеточные взаимодействия и др. Замедленная микрокиносъемка культур живых тканей позволила документально регистрировать процессы жизнедеятельности в динамике.
Начиная с середины 20 в. благодаря применению электронного микроскопа исследования морфологов сосредоточились на ультрамикроскопической структуре клетки и других тканевых элементов. Были получены принципиально новые данные по структуре волокон миокарда, скелетных мышц, синапсов и т.д. С помощью электронной микроскопии было показано особое значение мембранных структур в построении различных компонентов клетки. Установлено, что проникновение веществ в клетку и в клеточные органоиды осуществляется с помощью особых транспортных систем, обеспечивающих проницаемость биологических мембран. Прогрессу в изучении клетки в прижизненном состоянии способствовала разработка техники операций на клетках. В 1901 г. одновременно С. Схаутеном в Голландии, М. Мак-Клендоном и М. Барбером в США был сконструирован микроманипулятор, позволявший извлекать из клетки отдельные ее органоиды. В 1912 г. С.С. Чахотиным был создан микроманипулятор, позволяющий измерять электрические потенциалы с помощью микроэлектродов, вводить в клетку разнообразные вещества, бактерии, ядра и другие компоненты сходных или чужеродных клеток. Развитие этой техники привело к формированию микрургии, ставшей основным методом изучения клетки в прижизненном состоянии.
Под влиянием открытия рентгеновских лучей в специальную область научных знаний выделилась рентгеноанатомия, дающая возможность изучать форму и строение живого человеческого тела. Рентгеновские лучи в анатомии впервые (1896) применил русский анатом В.Н. Тонков. Данные рентгеноанатомии стали одной из основ функциональной, динамической нормальной и патологической анатомии.
Одним из крупных представителей патологической анатомии был Л. Ашофф, сочетавший исследования патологических изменений организма человека с экспериментальными данными, получаемыми в опытах на животных. Им изучено строение тромбов и роль гемодинамики в тромбообразовании, разработано учение о собственной проводящей системе сердца. Л. Ашофф с сотрудниками изучил изменения миокарда при ревматизме, описал специфические ревматические гранулемы. Независимо от Л. Ашоффа ревматическая гранулема была описана советским патологом В.Т. Талалаевым (гранулема Ашоффа — Талалаева). Важные морфологические исследования внутрисердечной нервной системы были выполнены отечественными морфологами И.М. Догелем(1895), С.Е. Михайловым (1907) и В.П. Воробьевым (1917). В результате исследований в области цитопатологии (раздел цитологии, изучающий патологические процессы на клеточном уровне), а также патологии самой клетки и ее органоидов, были получены данные об изменении клеток вследствие их старения и воздействия на них неблагоприятных факторов окружающей среды — физических, химических, биологических. Цитопатологические исследования получили особенно значительное развитие в радиобиологии, где всестороннее изучение реакции клетки на воздействие лучистой энергии возможно не только на клеточном или субклеточном, но и на молекулярном уровне.
В конце 19 — начале 20 в. получила развитие теория динамических систем, возникшая на основе теории дифференциальных уравнений. Одним из фундаментальных положений этой теории явилось понятие «обратная связь» и формулирование принципа управления по отклонению фактического состояния управляемого объекта от заданного. В физиологии и медицине значение обратной связи для управления функциями организма животных и человека впервые в мире было исследовано и описано в трудах русских физиологов Н.А. Белова (1911), А Ф. Самойлова (1930), Н.А. Бернштейна (1934), П.К. Анохина (1935) и др. Развитие теории информации и статистических методов исследования управляющих систем позволило установить наличие и большое значение обратной связи в биологических и технических системах, а также информационный характер процессов регулирования и управления в биологии. Совместными усилиями представителей таких на первый взгляд далеких друг от друга отраслей знания, как физиология и математика, автоматика и психология, в середине 20 в. была создана кибернетика. В становлении кибернетики как науки большую роль сыграли научно-технические достижения в области нейрофизиологии и особенно физиологии в.н.д., создание первых автоматических регуляторов, развитие теории и практики дискретных преобразователей информации. Решающее значение для становления кибернетики имело создание в 40-х гг. электронно-вычислительных машин. В 1948 г. американский математик Н. Винер (1894—1964) опубликовал книгу «Кибернетика», в которой на основе обобщения исследований своих предшественников сформулировал предмет, объект и основные понятия новой науки.
Роль и значение кибернетики для современной научно-технической революции настолько велики, что саму революцию нередко называют кибернетической. Кибернетика открыла для изучения области процессов, происходящих в системах управления различной природы, особенно процессов хранения, переработки, передачи и восприятия информации (информационные процессы), вызвала существенные сдвиги в методах научного исследования и способствовала проникновению в познание приемов моделирования, формализации, алгоритмизации и связанных с ними понятий. Она способствовала выяснению основных характеристик регуляторных биологических систем, раскрытию конкретных структурных основ реализации обратных связей и обеспечению надежности передачи информации. Биокибернетический подход оказался плодотворным для исследования процессов, протекающих на всех уровнях организации: с его помощью успешно изучают процессы жизнедеятельности клеток, морфогенез, работу мозга и органов чувств, регуляцию функциональных процессов и т.д. Универсальное значение для биологии и медицины приобрел метод математического моделирования жизненных процессов и экспериментальной физической проверки предположений и механизмах физиологических реакций. Применение математических методов М. связано с использованием ЭВМ, позволяющих благодаря быстроте совершаемых ими операций не только анализировать результаты эксперимента, но и изменять его направление согласно заданной программе. Явления обратной связи в регуляции дыхания, уровня сахара в крови, любого безусловного или условного рефлекса и многих других процессов в животном организме легли в основу кибернетических расчетов, схем и конструкций. Особое значение приобрела проблема программирования дифференциальных признаков болезней и привлечения счетно-решающих машин для постановки диагноза. Использование принципов кибернетики в М. привело к созданию ряда сложных автоматических систем, предназначенных для быстрой переработки большой по объему информации и для практических медицинских целей. Созданы диагностические машины, автоматические системы для регулирования наркоза, дыхания и высоты АД во время операций, автоматические стимуляторы сердечной деятельности, активные управляемые протезы и др.
На рубеже 19—20 вв. начался переход физиологической науки от аналитического понимания жизненных процессов к синтетическому. Основополагающую роль в осуществлении этого перехода сыграли материалистические идеи русских физиологов И.М. Сеченова и И.П. Павлова о единстве организма и среды, а также разработанные ими и их учениками новые методы исследования закономерностей взаимодействия целостного живого организма с окружающей средой. Особенно большое влияние на дальнейшее развитие экспериментальной медицины оказал разработанный И.П. Павловым хирургический метод хронического эксперимента с широким применением фистул и анастомозов, позволивший осуществлять в относительно нормальных условиях постоянное наблюдение над физиологическими процессами. Использование метода хронического эксперимента привело И.П. Павлова к открытию нового типа рефлекторных связей — условного рефлекса и к внедрению объективного естественнонаучного метода условных рефлексов в изучение в.н.д. животных и человека. Результаты исследований оказали существенное влияние на развитие экспериментально-физиологического направления медицины 20 в.
Одновременно с созданием И.П. Павловым учения об условных рефлексах английский физиолог Ч. Шеррингтон (1857—1952) провел фундаментальные исследования основных физиологических процессов, происходящих в спинном мозге и стволе мозга. Он показал, что спинномозговые рефлексы являются интегративными реакциями и характеризуются взаимодействием множества нервных элементов и перестройкой внутрицентральных взаимоотношений. Ч. Шерринпон внес большой вклад в разработку учения о координации функций ц.н.с. Им и его сотрудниками были изучены особенности проведения возбуждения в рефлекторной дуге, показано значение торможения в рефлекторной деятельности мозга, установлено существование взаимоусиливающих и взаимоослабляющих рефлексов, дана классификация рецепторов на проприо-, экстеро- и интерорецепторы, сформулированы общие принципы функционирования ц.н.с. — принцип реципрокной (сопряженной) иннервации мышц-антагонистов и принцип общего конечного пути.
Швейцарский физиолог В. Хесс разработал (1924) метод вживленных электродов, позволяющий изучать функции подкорковых структур мозга; выдвинул представление о наличии функциональных центров нервной регуляции и предложил оригинальную теорию сна, согласно которой в гипоталамусе расположен центр сна. Эти его исследования в 1949 г. были удостоены Нобелевской премии.
Фундаментальным открытием явилось выяснение в 40-х гг. американским ученым X. Мегуном, итальянским физиологом Дж. Моруцци и др. значения неспецифических активирующих влияний ретикулярной формации ствола мозга в регуляции возбудимости и тонуса всех отделов ц.н.с. В связи с этими и последующими исследованиями П.К. Анохина и его учеников значительно изменились представления о характере распространения возбуждений по ц.н.с., более четким и глубоким стало понимание механизмов корково-подкорковых взаимоотношений, сна и бодрствования, наркоза, эмоций и мотиваций.
Английские физиологи У. Гаскелл и Дж. Ленгли в конце 19 — начале 20 в. заложили основы современных представлений о функциях вегетативной нервной системы. Австрийский фармаколог О. Леви открыл в 1921 г. участие ацетилхолина в передаче возбуждения блуждающего нерва на сердце и заложил тем самым основы учения о медиаторах, т.е. химическом механизме передачи нервного импульса в синапсах. Английский физиолог Г. Дейл ввел классификацию нервных волокон по химическому признаку: адренергические, холинергические и др. В 1934 г. он установил, что ацетил-холин является медиатором, передающим импульсы к скелетной мускулатуре.
Раскрытие механизмов передачи возбуждения с нерва на мышечное волокно имело не только большое теоретическое, но и практическое значение, поскольку легло в основу применения фармакологических веществ, названных миорелаксантами. Учение о медиаторах оказало существенное влияние на физиологию, фармакологию и токсикологию, раскрыв механизмы действия некоторых лекарственных препаратов и ядов, в невропатологии оно помогло выяснить патогенез ряда заболеваний нервно-мышечной системы. Выяснение механизмов синаптической передачи нервною импульса позволило создать большую группу лекарственных препаратов медиаторного и антимедиаторного действия, которые были внедрены в клиническую практику.
Большое влияние на М. оказало развитие физиологии кровообращения, дыхания, пищеварения и выделения. В 1893 г. немецкий эмбриолог и анатом В. Гис (1863—1934) описал носящий теперь его имя пучок мышечных волокон, идущий от предсердия к желудочку. Затем был обнаружен атриовентрикулярный узел, от которого начинается этот пучок, а также синоатриальный узел, являющийся главным генератором импульсов (водителем ритма сердца, или пейсмекером), вызывающих сокращение миокарда. Многочисленными исследованиями было показано, что в случае нарушения функции синоатриального узла водителем ритма становится атриовентрикулярный узел. Если же и ею функция нарушена или прервано проведение возбуждения от этого узла к желудочкам, то водителями ритма становятся клетки Пуркинье, рассеянные в миокарде.
В 1923—1924 гг. немецкий физиолог Г. Геринг, а затем бельгийский физиолог и фармаколог К. Гейманс изучали значение механо- и хеморецепторов синокаротидной и аортальной рефлексогенных зон и регуляции сердечной деятельности и тонуса сосудов.
Работы датского физиолога А. Крога в 20-х гг. заложили основы современных представлений о функциях капилляров. В эти же годы Дж. Баркрофт привел экспериментальное доказательство тому, что селезенка — депо крови, регулирующее количество ее в организме. В 1928 г. К. Гейманс доказал, что рефлекторными раздражителями дыхательного центра являются увеличение напряжения углекислоты и уменьшение напряжения кислорода.
Еще в конце 19 в. И.П. Павлов и его сотрудники заложили основы современной физиологии пищеварения и установили закономерности нервной регуляции деятельности желудочно-кишечного тракта. В 1906 г. Дж. Эдкинс установил, что введение животному экстрактов из слизистой оболочки пилорической части желудка вызывает секрецию желудочных желез. Специфический химический возбудитель, образующийся в желудке и возбуждающий секрецию желудочных желез, он назвал гастрином. В конце 20-х и в 30-х гг. было открыто еще несколько гормонов, образующихся в пищеварительном тракте.
Изучение гормонов и механизмов гормональной регуляции в норме и при патологии привело к формированию эндокринологии. В 1901 г. японский ученый Л. Такамине, а в 1905 г. американский ученый Т. Олдрич впервые получили в очищенной кристаллической форме препарат мозгового вещества надпочечника и назвали его адреналином. В 1902 г. биологи У. Бейлисс и Э. Старлинг предложили термин «гормон», ставший общепринятым для обозначения веществ, выделяемых в кровь эндокринными железами. В 1910 г. отечественный ученый М.Н. Чебоксаров впервые показал влияние нервного раздражения на секрецию адреналина, доказав т.о. единство нервной и гуморальной регуляции. В 1912 г. А. Франк установил наличие в задней доле гипофиза антидиуретического гормона, позже названного вазопрессином. В 1921 г. Г. Эванс и К. Лонг открыли в передней доле гипофиза гормон роста, избыток продукции которого вызывает акромегалию и гигантизм. В 1927 г. И. Рогов и С. Стюарт выделили активный гормон из надпочечников, который вскоре был применен для лечения аддиссоновой болезни. Новая эра в эндокринологии и гинекологии началась с открытия женских половых гормонов. В 1927 г. немецкий ученый Б. Цондек и З. Ашгейм выделили из мочи беременных женщин гонадотропный гормон передней доли гипофиза. В том же году ими была предложена эффективная биологическая реакция для определения ранних сроков беременности, основанная на том, что в моче беременных имеется хорионический гонадотропин. В 1929 г. американский физиолог и биохимик Э. Дойзи совместно с Э. Алленом выделил активный препарат фолликулярного гормона, в 1929 г. получил в кристаллическом виде эстрон, в 1935 г. — эстрол и эстрадиол, в 1939 г. — в чистом виде витамины К1, и К2, определил их химическую структуру и синтезировал витамин К1. За эти работы он и X. Дам, открывший витамин К1 (филлохолин), удостоены Нобелевской премии. В 1901 г. русский ученый Л.В. Соболев на основании экспериментальных исследований пришел к выводу, что островки Лангерганса поджелудочной железы являются органом внутренней секреции, в котором происходит выработка противодиабетического вещества, названного позже инсулином. Это открытие, а также разработка методов получения инсулина в чистом виде послужило основой становления медикаментозного лечения диабета.
В последующие годы были выделены гормоны различной природы — АКТГ, кортизон, преднизолон и др., а многие из них и синтезированы.
Исследованиями физиологов и биохимиков в первой половине 20 в. было установлено, что влияния, осуществляемые нервной системой, и действие физиологически активных веществ, образующихся в организме, представляют собой звенья общего механизма регуляции функций. В результате была преодолена односторонность различных точек зрения, противопоставляющих нервный и гуморальный механизмы регуляции, и сложилась концепция нейрогуморальной регуляции. Крупнейшим представителем этой концепции был американский физиолог У. Кеннон. Исследуя физиологические механизмы эмоций и мотивации поведения, он установил, что боль, ярость, страх сопровождаются рефлекторным возбуждением чревных нервов, выделением надпочечниками адреналина в кровь, появлением приспособительных реакций (расширение зрачков, повышение кровяного давления, учащение дыхания и т.д.), а также активацией метаболизма, повышением работоспособности скелетных мышц и мобилизацией всех ресурсов организма. У. Кеннон сформулировал учение о симпатико-адреналовой системе, утверждавшее принцип единства нервной и гуморальной регуляции, благодаря которому определено значение этой системы в мобилизации энергетических ресурсов организма. Венцом его обобщений явилось учение о гомеостазе как о саморегуляции, позволяющей поддерживать относительное постоянство внутренней Среды организма и некоторых жизненно важных процессов. Представления У. Кеннона о саморегуляции разных систем организма получили дальнейшее развитие в трудах его последователя мексиканского ученого А. Розенблюта и сотрудничавшего с ним Н. Винера, которыми были заложены основы кибернетики. Многочисленными исследованиями было установлено, что саморегуляция в целостном организме является результатом взаимосвязи между регулируемым органом и регулирующим аппаратом с помощью находящихся в скелетных мышцах проприоцепторов и располагающихся во внутренних органах и сосудистых рефлексогенных зонах висцерорецепторов.
Идеи У. Кеннона о роли симпатико-адреналовой системы в поддержании устойчивого состояния организма (гомеостаза) и в развитии эмоций послужили одной из предпосылок для создания Г. Селье концепции об адаптационном синдроме и так называемом стрессе. Механизм адаптационного синдрома, по Селье, связан с функцией коры надпочечников и передней доли гипофиза, выделяющих адренокортикотропный (АКТГ) и соматотропный гормоны. В зависимости от соотношения этих гормонов определяется действие стрессоров. Работы Г. Селье приковали внимание исследователей всего мира и многими из них были восприняты как универсальная теория патологии. Однако, как всякая теория, стремящаяся дать всеобъемлющее объяснение многочисленным процессам, она имеет ряд слабых сторон, нуждающихся в дальнейшем уточнении.
В 1968 г. английский гистолог и патолог Э. Пирс выдвинул теорию существования в организме специализированной высокоорганизованной диффузной нейроэндокринной клеточной системы, основным специфическим действием которой является способность к выработке биогенных аминов и полипептидных гормонов. За нейроэндокринно запрограммированной клеточной организацией, обладающей высокой функциональной активностью, утвердилось наименование АПУД-системы. Исследования показали, что ее клетки вырабатывают высокоактивные химические вещества: серотонин, катехоламины, гистамин, мелатонин, инсулин, гастрин, глюкагон, АКТГ, соматотропный гормон (СТГ) и др., т.е. участвуют в регуляции функции желез внутренней секреции и метаболических процессов непосредственно в тканях. В 60—70-х гг. группам ученых, которые возглавляли Э. Шелли и Р. Гиллемин, удалось выделить в чистом виде и выяснить структуру ряда гипоталамических рилизинг-гормонов, или нейрогормонов, осуществляющих передачу информации от нервной системы к эндокринным органам. Образуя, в различных отделах гипоталамуса. эти рилизинг-факторы, получившие название либеринов и статиков, обеспечивают оптимальную скорость секреции тропных гормонов-стимуляторов функции периферических эндокринных желез. Исследования 70—80-х гг. раскрыли важную роль в гуморальных процессах организма так называемых регуляторных пептидов (РП), синтезируемых и выделяемых во внутренние среды организма не только эндокринными железами, что было известно довольно давно, но и группами клеток разнообразных органов и тканей. Многие из них синтезируются в нейронах и секретируются нервными окончаниями в ц.н.с. и на периферии. Они взаимодействуют с рецепторами на поверхности клеток-мишеней и «включают» определенные химические и физико-химические процессы в клеточных мембранах и внутри клетки. Ряд РП связан с механизмами обучения и памяти (вазопрессины, окситоцин, АКТГ и др.), некоторые (эндорфины и энкефалины) дают антипсихотические, гипотензивные, противоязвенные и противоболевые эффекты. Изучение их действия и взаимодействия различных отделов нервной системы и эндокринных желез помогло установить патогенез ряда эндокринных заболеваний, создать новый раздел эндокринологии — нейроэндокринологию и разработать эффективные методы терапии.
В 60—70-х гг. наука обогатилась большим числом методов, которые могут быть использованы для разработки проблем физиологии человека без вреда для испытуемого. Современные методы исследования предоставляют возможности изучать функции организма человека как в покое, так и при деятельности не только в условиях лаборатории, но и вне ее, на расстоянии от исследователя, как в нормальном, так и в патологическом состоянии, как в обычных, так и в чрезвычайных условиях, в т.ч. при полетах в космос или при пребывании под водой. В результате фактически заново были созданы прикладные разделы физиологии, посвященные изучению закономерностей работы человека в соответствии со специальными задачами, например физиология труда, спорта, питания, авиационная, космическая, подводная физиология. Экспериментально-физиологическое направление исследований оказало существенное влияние не только на формирование теоретических основ М., но и получило широкое развитие в клинической медицине.
Конец 19 — начало 20 в. ознаменовались существенными достижениями в развитии микробиологического и иммунологического направлений в М. Уже в конце 19 в. было обнаружено, что ряд заболеваний человека вызывается микроскопическими одноклеточными существами животною происхождения — простейшими. В 1875 г. русский ученый Ф.А. Леш установил, что особая форма хронической дизентерии вызывается амебами, а не бактериями. Французский врач А. Лаверан нашел в 1880 г. в крови больных малярией возбудителя этого заболевания — малярийный плазмодий. Русский врач П.Ф. Боровский в 1898 г. доказал, что обнаруженный им возбудитель пендинской язвы принадлежит не к бактериям, и к простейшим (Protozoa). Английский специалист в области тропической медицины У. Лейшман и 1900 г. описал найденного в селезенке человека, погибшего от лихорадки дум-дум (кала-азар), возбудителя этого заболевания и отнес его к группе жгутиковых. Английский врач Р. Росс в 1903 г. отнес этих возбудителей к новому роду простейших — Leichmani. Вызываемая представителями этою рода простейших группа протозойных инфекций человека и животных получила название лейшманиозов.
На рубеже 19—20 вв. были сделаны открытия, способствовавшие успехам в изучении малярии и борьбе с ней. В 1898—1903 гг. Р. Росс и итальянский ученый Дж. Грасси детально описали развитие малярийных паразитов в организме самок комаров. В дальнейшем Р. Росс выяснил цикл развития возбудителя малярии у человека и роль комаров в переносе ее возбудителей. В 1910 г. Р. Росс сформулировал основные положения эпидемиологии малярии, которые сыграли принципиальную роль в разработке системы борьбы с паразитами и профилактике паразитарных болезней. За изучение малярии он удостоен Нобелевской премии (1902).
Особую главу микробиологии составило учение о риккетсиозах. В 1909 г. американский врач-микробиолог Г. Риккетс (1871—1910) открыл возбудителя пятнистой лихорадки Скалистых гор. Французский микробиолог Ш. Николль с сотрудниками экспериментально воспроизвел сыпной тиф на обезьянах, установил, что это заболевание передается вшами и разработал рациональные основы борьбы с ним. В 1913 г. чешский паразитолог С. Провачек (1875—1915) обнаружил в кишечнике платяной вши возбудителя сыпного тифа. Бразильский патологоанатом Э. да Рота-Лима назвал всю группу открытых микроорганизмов и честь погибших в результате лабораторных заражений X. Риккетса и С. Провачека риккетсиями, а возбудителя сыпного тифа — риккетсией Провачека. Работы Э. Роша-Лимы позволили окончательно решить вопрос об этиологии сыпного тифа.
На рубеже 19—20 вв. как самостоятельная наука сформировалась вирусология. Первые представления о природе вирусов были даны русским ученым Д.И. Ивановским. Он установил, что возбудитель мозаичной болезни табака проходит сквозь агаровые гели и мелкопористые бактериальные фарфоровые фильтры, указал, что фильтруемость и неспособность вирусов расти на искусственных питательных средах являются принципиальными критериями их отличия от других микроорганизмов. На протяжении двух последующих десятилетий исследователи открыли вирусы, вызывающие многие болезни животных и человека.
В 1898 г. Ф. Леффлер и П. Фрош сообщили о вирусе, вызывающем ящур, показали его способность размножаться в пораженном организме. В течение последующих лет установлена вирусная природа возбудителей чумы рогатого скота (1899), желтой лихорадки (1901), бешенства (1903), полиомиелита (1909) и др.
На рубеже 19—20 вв. было выяснено, что понятие «дизентерия» включает в себя многочисленную группу острых кишечных расстройств, весьма разнообразных по своей этиологической природе и вызываемых простейшими, бактериями разных родов и видов и даже вирусами. Первое открытие, способствовавшее выделению бактериальной дизентерии из обширной группы острых кишечных расстройств, было сделано в 1891 г. А.В. Григорьевым. Обнаруженный им микроб находился в испражнениях больных и в брыжеечных железах кишечника людей, погибших от дизентерии. Спустя 7 лет, в 1898 г., японский ученый К. Шига описал аналогичный микроб (бактерия Григорьева — Шиги). Затем были выделены и изучены другие возбудители бактериальной дизентерии. В 1901 г. П.Н. Лащенков впервые указал на роль стафилококков в пищевых отравлениях. Американский микробиолог М. Барбер (1914) описал вспышку пищевых отравлений на Филиппинских островах, вызванную употреблением молока от коров, пораженных стафилококкозом вымени. Затем были выделены возбудители ботулизма, сифилиса, туляремии, описана кишечная палочка и т.д.
До 1931 г. выделение и культивирование вирусов животных и человека осуществлялось почти исключительно путем заражения животных, восприимчивых к этим вирусам. Таким путем были выделены и изучены возбудители оспы, бешенства, простого герпеса, гриппа, полиомиелита, лимфоцитарного хориоменингита, желтой лихорадки, ряда клещевых и комариных энцефалитов и др. В 1931 г. А. Вудрафф и Э. Гудпасчер открыли возможность культивировать вирус оспы кур в лабораторных условиях в тканях куриного эмбриона. В 1941 г. Дж. Херст обнаружил способность вируса гриппа склеивать (агрегировать или агглютинировать) эритроциты кур. В дальнейшем была установлена такая способность других вирусов в отношении эритроцитов разных млекопитающих и птиц. Это дало в руки вирусологам простой метод определения многих вирусов и соответствующих антител.
Новый этап в вирусологии начался с открытия У. Стенли, который в 1935 г. получил вирус мозаичной болезни табака в кристаллическом виде. В 1936 г. английский ученый Ф. Боуден с сотрудниками показал, что этот вирус является нуклеопротеидом. Впоследствии вирусологами разных стран было установлено, что кристаллические структуры могут формировать и некоторые мелкие вирусы позвоночных, например вирус полиомиелита. Исключительное значение для развития вирусологии имела разработка методики получения однослойных клеточных культур, которая была осуществлена в 1949 г. американскими учеными Дж. Эндерсом и др. На ее основе были разработаны методы получения под слоем агара (или другого геля) колоний вируса, образующихся из единичной вирусной частицы. Использование электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа в сочетании с рядом других методов позволило в 50—70-х гг. расшифровать структуру большинства вирусов. Изучение структуры вирусов показало, что все они построены по общему плану и состоят из одно- или двухцепочечной нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК) и окружающей ее белковой оболочки.
Изучение процессов взаимодействия вирусов и клеток хозяина показало, что чаще всего вирус вызывает процесс, приводящий к гибели клеток. Реже размножение вируса в клетке происходит без видимого нарушения ее структуры и не вызывает гибели клетки. Своеобразной оказалась форма взаимодействия с клеткой-хозяином вирусов, обладающих онкогенной активностью. В 1911 г. Ф. Раус (1879—1970) перевил саркому кур, вводя им бесклеточный фильтрат от больных животных. В середине 40-х гг. советский ученый Л.А. Зильбер, предложив вирусно-генетическую теорию возникновения некоторых злокачественных опухолей, развернул работу по ее экспериментальному подтверждению. В 1956 г. Р. Менекер и В. Гроуп описали трансформацию культуры фибробластов куриного эмбриона под действием вируса саркомы Рауса, при которой фибробласты приобрели способность к непрерывному беспорядочному росту и делению, как при опухолевом процессе в организме.
В 1915 г. английский бактериолог Ф. Туорт, изучая явление лизогении, установил, что выделенный им агент, обладающий литическими свойствами, относится к новому виду вирусов — вирусам бактерий; он был назван бактериофагом. Исследования австралийского бактериолога Ф. Бернета, проведенные в 1929—1936 гг., показали, что различные бактериофаги отличаются по своим физическим, физиологическим и серологическим свойствам и могут адсорбироваться только на определенных участках бактериальных клеток — так называемых клеточных рецепторах. Ф. Бернет разработал метод определения размножения бактериофагов в отдельных бактериальных клетках и доказал, что в зараженной бактериальной клетке накапливаются бактериофаги, которые при лизисе клетки выделяются в окружающую среду. Венгерский биохимик М. Шлезингер в 1933 г. впервые установил, что бактериофаг представляет собой нуклеопротеид, состоящий примерно из равных количеств белка и нуклеиновой кислоты, которая в 1936 г. была идентифицирована с ДНК.
В 1952 г. А. Херши и М. Чейс с помощью изотопных методов исследования показали, что фаг как таковой не проникает целиком в бактерию и что начало размножению фага дает не родительская частица, а ее ДНК, которая является носителем генетической информации.
Одно из крупнейших достижений вирусологии — открытие способности клетки под влиянием внедрения в нее вируса вырабатывать резистентность к заражению другим вирусом (явление интерференции). В 1935 г. М. Хоскинс сообщил о взаимном подавляющем действии нейротропного и висцеротропного штаммов вируса лихорадки. Вскоре интерференция была выявлена и между неродственными вирусами. Далее было установлено, что в большинстве случаев она оказалась связанной с синтезом клеткой особого низкомолекулярного белка — интерферона.
История М. середины 20 в. показала, что наиболее эффективным методом борьбы с вирусными инфекциями является активная иммунизация. В 1936 г. М. Тейлер разработал вакцину против желтой лихорадки из культур живых ослабленных вирусов. Массовое распространение получила вакцина против кори. Важную роль в борьбе с эпидемиями полиомиелита сыграли осуществленные в 1954 г. А. Сейбином селекции вируса полиомиелита и выведение вакцинных штаммов, пригодных для массового производства живой полиомиелитной вакцины. В СССР живую вакцину против полиомиелита впервые приготовили научные коллективы, возглавляемые М.П. Чумаковым и А.А. Смородинцевым. Массовые профилактические прививки против полиомиелита позволили добиться ликвидации его как массового заболевания в странах Европы и Северной Америки. На XI сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) советское правительство предложило программу ликвидации оспы в мире, взяв на себя большую долю обеспечения этой программы противооспенной вакциной и специалистами. Реализация этой программы под эгидой ВОЗ привела к выдающемуся успеху. По данным ВОЗ, последний случай оспы в эндемических очагах инфекции в мире был зарегистрирован в октябре 1977 г.
Особое внимание микробиологов привлекала проблема невосприимчивости организма к воздействию инфекционных агентов. На рубеже 19—20 вв. были выполнены исследования, результаты которых легли в основу теории иммунитета. На протяжении нескольких десятилетий предметом острых дискуссий была фагоцитарная теория иммунитета, высказанная впервые в 1883 г. И.И. Мечниковым. В конце концов первостепенное значение фагоцитарной реакции в защите организма от инфекций было полностью подтверждено. Последующее развитие науки показало, что фагоцитоз является важным, но не единственным механизмом иммунитета. Немецкий бактериолог Г. Бухнер установил в 1889 г., что бактерицидные свойства сыворотки крови зависят от наличия в ней термолабильных белковых защитных веществ, названных им алексинами. Полемизируя с И.И. Мечниковым, он принял в 1894 г. гипотезу об образовании алексинов клетками крови. Немецкий бактериолог Э. Беринг получил лечебные антитоксические сыворотки путем иммунизации лабораторных животных бактерийными культурами и токсинами. Этим он положил начало применению сывороток в лечебных целях при инфекционных болезнях. В 1890 г. Э. Беринг и С. Китасато получили противостолбнячную сыворотку; в 1892—1894 гг. Э. Беринг и одновременно с ним Э. Ру и Я.Ю. Бардах — сыворотку для лечения токсической формы дифтерии. В 1902 г. С.Л. Дзержговский доказал возможность активной иммунизации человека против дифтерии. В 1913 г. Э. Беринг разработал метод активной иммунизации смесью токсина и антитоксина. Т.о., были заложены основы серопрофилактики. Американский микробиолог и патолог С. Флекснер в 1905 г. предложил и ввел в медицинскую практику сыворотку против возбудителя цереброспинального менингита.
Уже в конце 19 в. были проведены исследования природы, механизма и материальных носителей гуморального иммунитета. П. Эрлих открыл присутствие в сыворотке крови антител, нейтрализующих токсины растительного происхождения (1891). В 1894 г. В.И. Исаев и Р. Пфейффер получили антитела, лизирующие холерные вибрионы, и описали специфическое растворение холерных вибрионов (бактериолиз) в брюшной полости иммунизированной морской свинки.
Французский терапевт Ф. Видаль разработал реакцию агглютинации для диагностики брюшного тифа и положил начало серодиагностике (1896).
Историческим открытием в области применения вакцин является предложенная французским ученым А. Кальметтом в 1921 г. живая ослабленная вакцина штамма туберкулезных бактерий, нашедшая широкое применение на практике. В 1899 г. Л. Дейч ввел понятие «антиген» для обозначения чужеродных белков и веществ другой природы (например, полисахаридов), которые, попадая в организм, вызывают специфическую иммунологическую реакцию, проявляющуюся образованием антител. Бельгийский бактериолог Ж. Борде (1870—1961) выполнил фундаментальные исследования факторов гуморального иммунитета. Он изучил природу и свойства литических агентов, установил физико-химический характер сывороточных реакций иммунитета, показал механизм гемагглютинации, преципитации, выяснил роль комплемента в реакции иммунитета, установив, что без его присутствия невозможно образование комплексов антиген — антитело. Вместе с О. Жангу он разработал в 1901 г. реакцию связывания комплемента, которая используется для диагностики бактерийных и вирусных инфекций. В частности, на основании реакции связывания комплемента немецкий ученый А. Вассерман предложил в 1906 г. метод серологической диагностики сифилиса.
Выявление защитных функций антисывороток оказало существенное влияние на формирование гуморальной теории иммунитета. П. Эрлих, разработавший методы определения активности антисывороток и изучения реакции антиген — антитело, объяснял взаимодействие токсинов с антитоксинами и антигенов с клетками и антителами наличием специфических для каждого антигена и антитела структур — рецепторов (рецепторная теория иммунитета).
Дальнейшие исследования показали, что в образовании иммуноглобулинов принимают участие макрофаги; лимфоидные же клетки, кроме того, осуществляют функцию распознавания антигенов, а также синтез иммуноглобулинов. Ф. Вернет в 1961 г. ввел специальный термин «иммунокомпетентная клетка» для обозначения тимусзависимых и костномозговых лимфоцитов, способных распознавать антиген и отвечать на него иммунной реакцией. Т.о., было доказано, что между клеточными и гуморальными факторами защиты организма от инфекции существует тесное взаимодействие.
Иммунология в 20 в. переросла рамки классического определения как науки о невосприимчивости организма к инфекционным болезням и постепенно охватила проблемы патологии, генетики, эмбриологии, трансплантологии, онкологии и др. Установленный в 1898—1899 гг. сотрудниками И.И. Мечникова, Ж. Борде и Ф.Я. Чистовичем факт, что введение чужеродных эритроцитов и сывороточных белков стимулирует выработку антител, положил начало развитию неинфекционной иммунологии. Последовавшее затем изучение цитотоксических антител привело к формированию иммунопатологии, изучающей заболевания, в генезе которых важное место занимают расстройства иммунологических механизмов.
Открытие австрийским иммунологом К. Ландштейнером групп крови человека и законов их изогемагглютинации привело к широкому использованию в практической М. переливания крови и формированию учения о тканевых изоантигенах. В 1927 г. К. Ландштейнер и американский иммунолог Ф. Левин обнаружили антигены в эритроцитах человека, а в 1940 г. К. Ландштейнер вместе с А. Винером открыл резус-антигены. В 40-х и. выяснилось, что процесс отторжения чужеродной ткани при трансплантации объясняется иммунологическими механизмами. В 1953 г. М. Гашек и английский ученый П. Медавар открыли новое явление — иммунологическую толерантность. Это положило начало исследованиям, посвященным преодолению иммунологической несовместимости тканей при их пересадках.
В тесной связи с изучением иммунологических процессов проходило исследование различных форм извращенной реакции организма на чужеродные вещества и ткани, в частности аномального повышения его чувствительности к различным воздействиям окружающей среды. В 1902 г. французские физиологи П. Портье и Ш. Рише открыли явление анафилаксии или повышенной чувствительности к парентеральному введению чужеродных веществ, сопровождающееся падением кровяного давления, рвотой, мышечной слабостью и нередко заканчивающееся смертью. Впервые термин «анафилактический шок» предложил А. Безредка (1870—1940). В 1907 г. он разработал способ предупреждения возникновения такого шока путем предварительного введения больным малых доз лечебной антисыворотки (антианафилаксия). Предложенные А. Безредкой принципы легли в основу современного применения антисывороток в профилактических и лечебных целях.
В 1906 г. австрийский ученый К. Пирке детально описал анафилаксию, открыв явление аллергии. Он предложил (1907) проводить аллергическую кожную реакцию на туберкулин как диагностическую пробу при туберкулезе. С этого момента началось всестороннее изучение вопросов, связанных с проявлениями аллергии, как в эксперименте, так и в клинической М. Английский ученый Л. Нун в 1911 г. доказал возможность исцеления от сенной лихорадки — одной из самых распространенных аллергических болезней введением под кожу больного экстрактов из цветочной пыльцы в возрастающих концентрациях. С тех пор этот метод стал основой специфической десенсибилизации организма. На протяжении десятилетий были накоплены значительные экспериментальные и клинические данные об аллергии и анафилаксии.
В 60—70-х гг. 20 в. были вскрыты основные механизмы развития аллергических реакций, выявлена и изучена роль накопления в организме гистамина при этом явлении и предложен ряд антигистаминных препаратов. В самостоятельный раздел иммунологии и клинической М. сформировалась аллергология как область научного знания, изучающая этиологию, патогенез, клинику аллергических болезней и разрабатывающая методы их профилактики и лечения.
Клиническая медицина. Развитие клинической М. в 20 в., опиравшееся на достижения естественных наук, успехи теоретической М. и технический прогресс, сопровождалось коренными преобразованиями, благодаря чему изменился ее характер. Это касается и понимания природы болезней, и возможностей их распознавания, лечения и профилактики.
В связи с наметившимся переходом клиницистов на позиции функционализма получили развитие методы клинической физиологии, функциональной диагностики. Особое значение имели разработка и внедрение методов функциональной диагностики: электрокардиографии, аускультативного метода измерения АД, катетеризации сердца, методов исследования функции внешнего дыхания, ЯМР-интроскопии и т.д. В сочетании с методами рентгено- и радиоизотопной диагностики, в т.ч. компьютерной томографией, ультразвуковой диагностики, эндоскопией с использованием волоконной оптики, цитологическими методами, иммунодиагностикой, биохимическими методами исследования функций печени, почек, системы крови, желез внутренней секреции и т.д., они позволяют врачу определить морфологическое и функциональное состояние любого органа, уловить тончайшие изменения их функции, переход ее от нормальной к патологической и к болезни.
В 20 в. врач из наблюдателя болезни превращается в целителя, способного активно вмешиваться в ее течение. При большинстве заболеваний на смену симптоматическому приходит этиотропное или патогенетическое лечение. Так, немецкий врач П. Эрлих еще в первом десятилетии 20 в. доказал возможность синтезировать по заданному плану препараты, способные воздействовать на возбудителя инфекционных болезней и тем самым заложил основы химиотерапии. Открытие бактериостатического действия сульфаниламидных соединений при кокковых инфекциях положило начало успехам химиотерапии бактериальных инфекций. С выпуском в 1939 г. сульфатиозола крупозная пневмония перестала быть смертельно опасным заболеванием. В первой половине 40-х гг. началось широкое применение антибиотиков. При массовом использовании антимикробных средств все чаще стали выявляться осложнения, обусловленные токсическим действием препаратов, аллергическими реакциями организма, дисбактериозом. Это заставило строже ставить показания к применению каждого антибиотика, сульфаниламидного препарата, но ни в какой мере не снизило значения этих эффективных средств борьбы с возбудителями заболеваний инфекционной природы. Появление устойчивых к антибиотикам форм микроорганизмов определило направление поиска новых антибиотиков.
Наряду с химиотерапией бактериальных инфекций во второй половине 20 в. быстро развивается химиотерапия опухолей. Цитостатические средства с успехом используют не только для подавления патологического клона клеток, но и в качестве иммунодепрессантов при многих заболеваниях, в патогенезе которых решающую или важную роль играют аутоиммунные процессы. Вместе с тем современная цитостатическая терапия связана с постоянным риском развития полисиндромной цитостатической болезни, разработка лечения которой стала актуальной проблемой клинической медицины.
В качестве иммунодепрессантов при аутоиммунных заболеваниях и для подавления тканевой несовместимости при трансплантации органов и тканей наряду с цитостатиками широко применяются кортикостероиды. Это яркое свидетельство широкого диапазона современной гормонотерапии, развившейся на основе прогресса эндокринологии. Достижения химии гормонов и клинической эндокринологии привели к тому, что в 20 в. на основе разработанного в 19 в. французским физиологом Ш. Броуном-Секаром учения о железах внутренней секреции сформировалась самостоятельная научно-практическая дисциплина — эндокринология. Начало нового этапа в развитии эндокринологии относится к 40-м гг., когда американский клиницист Ф. Хенч с успехом применил синтезированный О. Сарре в 1944 г. гормон коры надпочечников кортизон для лечения ревматоидного артрита (1948). Дальнейшими исследованиями многих авторов была показана высокая эффективность кортизона и АКТГ при других ревматических заболеваниях. Синтезированные несколько позже преднизон, преднизолон, дексаметазон и др., оказавшиеся значительно более эффективными, чем кортизон, стали применяться при различных заболеваниях практически во всех областях клинической медицины.
Такое же широкое значение для клинической медицины приобрели во второй половине 20 в. психофармакологические средства. Их применение в медицинской практике не только оказало революционизирующее влияние на состояние современной психиатрии, но и обогатило другие разделы клинической медицины: терапию, хирургию, акушерство и т.д. Последнее объясняется тем, что избирательное психотропное (успокаивающее, антидепрессивное, стимулирующее) действие этих средств позволяет снять невротический компонент, часто сопутствующий соматическому страданию, а непсихотропные их эффекты (противосудорожный, обезболивающий, гипотензивный, противорвотный и др.) могут быть использованы для патогенетической терапии основного заболевания. Так, резерпин и другие препараты раувольфии вошли в число основных средств лечения гипертонической болезни.
Возможности терапии возросли благодаря использованию внутриартериального, внутриполостного способов введения лекарственных препаратов, применению таких пограничных с хирургией методов, как гемодиализ, дефибрилляция сердца и т.п. Необходимость тщательного изучения многочисленных новых лекарственных средств, выработки оптимальных схем их применения, выявления возможных отрицательных эффектов привела к зарождению во второй половине 20 в. нового раздела клинической медицины — клинической фармакологии, синтезировавшей подходы классической фармакологии (эксперимент на животных) и клинической медицины (апробация лекарств в условиях клинического эксперимента с использованием «слепого» или «двойного слепого» метода, когда ни врач, ни больной не знают, что применяется — испытываемое лекарство или плацебо).
Для медицины 20 в. характерно и расширение границ применения оперативных методов лечения. Доступными скальпелю хирурга стали сердце и крупные сосуды, легкие и мозг. Проблема приобретенных и врожденных пороков сердца, традиционно изучавшаяся клиникой внутренних болезней, в связи с успехами оперативного лечения стала и хирургической проблемой. Сосудистые поражения и многие другие заболевания головного мозга стали предметом изучения не только невропатологии, но и нейрохирургии. О взаимодополняющих возможностях различных методов современного лечения свидетельствует комплексная терапия злокачественных опухолей, включающая химиотерапию, хирургическое лечение и лучевую терапию, быстрое развитие которой опирается на открытие разнообразных видов ионизирующих излучении и разработку соответствующей новой техники (α-, β-, γ-терапия, нейтронная, притонная терапия и т.д.). Успехи в диагностике и лечении опухолевых заболеваний были обусловлены развитием теоретической, экспериментальной и клинической онкологии, которая в 20 в. выделилась в самостоятельную медицинскую науку.
Развитие медицины в 20 в. ознаменовалось не только впечатляющими успехами в лечении многих болезней, но и началом массовых мероприятий по их профилактике. В первую очередь они были направлены против инфекционных болезней. Профилактические прививки, химиопрофилактика и другие меры предупреждения инфекций и сочетании с методами ранней диагностики и эффективной антибактериальной терапии, разработанными клиникой инфекционных болезней, которая выделилась в 20 в. в самостоятельную клиническую дисциплину, способствовали тому, что во второй половине века эпидемические и другие инфекционные болезни перестали быть основной угрозой здоровью населения экономически развитых стран.
Профилактическое направление развития клинической медицины 20 в. не ограничилось областью инфекционных болезней. Оно приобрело особый размах и стало определяющим в медицине СССР и ряда других стран, где получил широкое распространение метод диспансеризации населения. Разработка методов массовой профилактики сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний во второй половине 20 в связана с развитием неинфекционной эпидемиологии как нового важного раздела медицинской науки.
Терапия продолжала развиваться как основная клиническая научная дисциплина и врачебная специальность, формирующая мышление клинициста и интегрирующая исследования в различных областях М. Видным представителем функционального направления М. в первой половине 20 в. в Германии был Ф. Краус, создавший научную школу, которая стала ведущей в изучении методов функциональной диагностики болезней сердечно-сосудистой системы, патологии обмена веществ, гематологических проблем. Работы Ф. Крауса способствовали выяснению связи между конституцией человека и его патологией. В общепатологических взглядах Ф. Крауса особая роль отводилась регуляторным механизмам ц.н.с. Он полагал, что кора головного мозга «осуществляет интегрирующие функции, возвышая личность до уровня кортикальной личности». Ученик Ф. Крауса Г. Бергманн в своей монографии «Функциональная патология» (1932) с передовых позиций трактовал проблемы единства организма, взаимоотношения психического и соматического. Взгляды Ф. Крауса и Г. Бергманна оказали серьезное влияние на клиницистов многих стран (в СССР — на Р.А. Лурия, Д.Д. Плетнева и др.). В Швейцарии Г. Сали создал руководство по клиническими методам исследования, которое базировалось на глубоком знании достижений физики и химии и по которому учились многие поколения врачей в Германии, России и других странах.
Французский терапевт Ф. Видаль, обогативший внутреннюю медицину основополагающими открытиями в области серодиагностики инфекционных болезней, цитологической диагностикой плевральных выпотов и др., возглавил функциональное направление в изучении болезней почек, способствовавшее разработке важных вопросов патофизиологии и клиники нефрита. Эти исследования вместе с клинико-морфологическими сопоставлениями (начиная с классических работ немецкого терапевта Ф. Фольгарда и патолога Т. Фара, 1914) составили основу активного развития учения о патологии почек в последующие десятилетия, завершившегося выделением нефрологии в качестве самостоятельного научно-практического раздела внутренней медицины.
Как и во второй половине 19 в., разработка проблем сердечно-сосудистой патологии занимала ведущее место в исследованиях терапевтов. Изучение артериальной гипертензии в клинической практике стало возможным после изобретения итальянским ученым С. Рива-Роччи манжетного способа (1896) и разработки русским врачом Н.С. Коротковым звукового метода (1905) измерения АД. Систематические измерения АД в медицинской практике показали частоту распространения артериальной гипертензии, превратившейся к середине 20 в. в одну из наиболее актуальных проблем М. Несомненные достижения современной клиники внутренних болезней в лечении артериальной гипертензии, позволяющие большинству больных при систематическом врачебном наблюдении и лечении сохранить в течение многих лет удовлетворительное самочувствие и работоспособность, опираются на накопленные знания о природе различных форм артериальной гипертензии.
Другой проблемой сердечно-сосудистой патологии, которая на протяжении 20 в. привлекает все большее внимание клиницистов различных стран, является атеросклероз, выделенный в самостоятельную форму поражения артерий из расплывчатого группового понятия «артериосклероз» в 1904 г. немецким патологом Ф. Маршаном. В 1912 г. С.С. Халатов и Н.Н. Аничков предложили холестериновую модель экспериментального атеросклероза, а в 1915 г. Н.Н. Аничков выдвинул холестериновую теорию патогенеза заболевания, которые надолго определили одно из основных направлений исследований по проблеме атеросклероза. Накопление фактов привело к отказу от ортодоксальной схемы: экзогенный холестерин — гиперхолестеринемия — холестериновая инфильтрация сосудистой стенки и к признанию патогенетической роли нейроэндокринных факторов при атеросклерозе. Представление об атеросклерозе как заболевании, обусловленном нарушениями нейрогуморальной регуляции обмена липидов, отражено, в частности, в получивших мировое признание работах А.Л. Мясникова, развивавшего концепцию близости гипертонической болезни и атеросклероза в биологическом и социальном аспектах.
Новой проблемой, возникшей в клинике внутренних болезней в 20 в. и ставшей во второй половине века острейшей проблемой М., явился инфаркт миокарда. Достижения современной М. в диагностике и лечении инфаркта миокарда, позволяющие большинству больных возвращаться к прежней жизни и трудовой деятельности, — результат коллективных усилий ученых нескольких поколений и многих стран. К числу основополагающих работ относятся классические описания клинической картины тромбоза венечных артерий сердца В.П. Образцовым и Н.Д. Стражеско (1909) и американским терапевтом Дж. Б. Херриком (1912), явившимся также автором первого сообщения об изменениях ЭКГ у больного инфарктом миокарда в сопоставлении с аналогичными изменениями при экспериментальной перевязке коронарной артерии (1919) и т.д.
В изучении нарушений ритма сердца важную роль сыграло усовершенствование основоположником клинической кардиологии в современном ее понимании английским терапевтом Дж. Маккензи графических методов регистрации артериального и венного пульса. В 1908 г. был опубликован его классический труд «Болезни сердца», где вместо анатомического подхода и преимущественного внимания к порокам сердца на передний план выдвинута индивидуальная оценка функциональных возможностей миокарда, основанная на анализе реакции больного сердца на нагрузку. Во второй половине века кардиология превратилась в одну из ведущих комплексных клинико-теоретических дисциплин современной М.: проблемы ее разрабатываются не только терапевтами, но и хирургами, физиологами, биохимиками, патологами и т.д.
Другой комплексной клинико-теоретической дисциплиной, выделившейся в 20 в. из внутренней медицины, является гематология. Так, на этапе ее становления разработка метода культивирования кроветворной ткани позволила А.А. Максимову еще в 20-х гг. выдвинуть унитарную теорию кроветворения. Современная гематология относится к тем областям клинической медицины, где наиболее широко применяют методы естественных наук — математические, генетические и др.
Использование тонких зондов для исследования желудочного и дуоденального содержимого способствовало развитию функционального направления в гастроэнтерологии, теоретический фундамент которого был заложен классическими работами по физиологии пищеварения И.П. Павлова и его школы. На начальном этапе становления гастроэнтерологии в качестве самостоятельного научно-практического раздела внутренней медицины особое значение имела научно-общественная деятельность немецкого терапевта И. Боаса, опубликовавшего учебник по болезням желудка и основавшего первый в Европе журнал по вопросам патологии органов пищеварения, обмена веществ и диететики. Ему принадлежат также описания болевых точек при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (1913), разработка методики пробного завтрака для определения секреторной функции желудка. Применение в современной гастроэнтерологии рентгенологических, радиологических и биохимических методов, эндоскопов с волоконной оптикой, биопсии, цитологической диагностики и т.д. обеспечивает условия для своевременного распознавания болезней органов пищеварения.
Рост заболеваемости хронической пневмонией, бронхитом, раком легких, с одной стороны, и развитие специальных методов исследования (бронхоскопии, бронхографии, томографии, ангиопульмонографии, методов определения функции внешнего дыхания и т.д.) — с другой, обусловили появление во второй половине 20 в. нового научно-практического раздела клинической медицины — пульмонологии. Значительно раньше, в первой четверти 20 в., началось выделение из внутренней медицины в качестве самостоятельной клинической дисциплины фтизиатрии, в разработке научных основ которой важную роль сыграли исследования немецкого патолога Л. Ашоффа по патоморфологии и классификации туберкулеза легких, австрийского педиатра К. Пирке и французских ученых А. Кальметта, Б. Вайлль-Алле и др. в области туберкулино-диагностики и вакцинации против туберкулеза. Для современной М. характерна тенденция к интеграции пульмонологии и фтизиатрии.
Хирургия 20 в. требует от врача-специалиста не только владения техникой операции, методами непосредственного и инструментального обследования больного, но и общебиологических и других теоретических медицинских знаний, обосновывающих применяемые методы лечения. Существенно изменился сам предмет хирургии: круг так называемых хирургических болезней соответственно росту научных знаний значительно расширился, его границы потеряли прежнюю строгую очерченность. С одной стороны, скальпель хирурга уверенно вторгается в те области человеческого тела, где еще в 19 в. попытки оперативного вмешательства казались немыслимыми в силу неизбежного летального исхода, а с другой стороны, успехи фармакотерапии отразились на лечении тех заболеваний, которые раньше считались чисто хирургическими. Так, развитие абдоминальной хирургии обусловило активную тактику хирургов при остром панкреатите и остром холецистите, однако дальнейшее накопление опыта и расширяющиеся возможности лекарственной терапии (антибактериальные средства, антиферментные препараты) привели к тому, что все шире применяются консервативные методы лечения этих заболеваний.
Успехи современной хирургии связаны с развитием методов обезболивания, управления жизненно важными функциями организма во время операции и в послеоперационном периоде, переливания крови, искусственной гипотермии, антибиотикотерапии, позволившими применять хирургическое лечение при заболеваниях труднодоступных и жизненно важных органов (сердца и магистральных сосудов, легких, головного и спинного мозга). Основные методы обезболивания — наркоз и местная анестезия — были открыты в 19 в., однако особенно быстрое их развитие началось в 20 в. в связи с успехами химии, нормальной и патологической физиологии, фармакологии. В первом десятилетии 20 в. немецкий хирург А. Вир предложил спинномозговую и внутривенную анестезию, американский врач Г. Лилиенталь первым применил в клинике эндотрахеальный наркоз, Выделению анестезиологии в самостоятельную клиническую дисциплину и врачебную специальность способствовали потребность торакальной хирургии и внедрение эндотрахеального наркоза с использованием мышечных релаксантов. При обширных внутригрудных операциях выявилась несостоятельность ингаляционного масочного наркоза. После того как канадские анестезиологи X. Гриффит и Э. Джонсон в 1942 г. применили в хирургической практике курареподобные средства, началось широкое внедрение эндотрахеального поверхностного наркоза.
Современная анестезиология вышла за рамки учения о методах обезболивания; предметом ее стало управление жизненно важными функциями организма при операциях и угрожающих жизни состояниях. Это сближает анестезиологию с другим новым клинико-теоретическим разделом М. — реаниматологией и является основой их интеграции.
Можно считать, что развитие торакальной хирургии началось в 30-е гг. Становление легочной хирургии в последующие десятилетия происходило на основе достижений анестезиологии и широкого применения в клинической практике переливания крови, изучения особенностей открытого пневмоторакса, использования возможностей современной антибактериальной терапии и т.д. Одновременно развивалась сосудистая хирургия, основы которой были заложены в начале 20 в. выполненными во Франции и США работами А. Карреля (1873—1944), применившего методы сосудистого шва, ауто-, гомо- и гетеропластики сосудов. В 1944 г. шведский хирург К. Крафорд успешно произвел резекцию аорты по поводу ее коарктации, что можно считать началом современной реконструктивной хирургии сосудов. Успешное ее развитие связано с применением протезов из синтетических материалов. Особых успехов достигла кардиохирургия, что связано с разработкой методов ангиокардиографии (А. Муниш, 1936, А. Кастельянос, 1938), катетеризации сердца и искусственного кровообращения, а также самой техники операций. В СССР оперативные доступы к клапанам сердца были изучены с применением аппарата искусственного кровообращения С.С. Брюхоненко в 1930 г., Н.Н. Теребинским. Английский хирург X. Суттер в 1925 г. успешно провел операцию на сердце, заключающуюся в расширении митрального отверстия пальцем, введенным в разрез левого ушка. Немецкий хирург Ф. Зауэрбрух, один из основоположников грудной хирургии, успешно выполнил операцию при аневризме правого желудочка сердца. В 1938 г. Р. Гросс (США), с успехом прооперировав ребенка с незаращенным артериальным протоком, положил начало хирургическому лечению врожденных пороков сердца. Быстрое развитие кардиохирургии, начиная с 50-х гг., опиралось на достижения анестезиологии, применение гипотермии и современных аппаратов искусственного кровообращения, позволяющих оперировать на «сухом сердце».
С первых десятилетий 20 в, началась экспериментальная разработка хирургических вмешательств на ц.н.с., одновременно шло накопление клинического опыта нейрохирургических операций. В 1912 г. ученик В.М. Бехтерева Л.М. Пуссеп организовал первую специализированную нейрохирургическую клинику в составе Психоневрологического института (Петербург). В 1926 г. в Ленинграде открылся первый в мире институт нейрохирургии. Исключительную роль в становлении нейрохирургии сыграли: в США — X. Кушинг, опубликовавший в 1932 г. сводку сделанных им 2 000 операций на мозге по поводу опухолей: в Канаде — У. Пенфилд, основные работы которого посвящены проблемам эпилепсии, опухолей мозга и роли ретикулярной формации, во Франции — Т. де Мартель, в СССР — А.Л. Поленов, Н.Н. Бурденко и др. На основе достижений хирургии и неврологии в середине 20 в. произошло выделение нейрохирургии в самостоятельную клиническую дисциплину. Важный раздел современной нейрохирургии — оперативное лечение пораженных сосудов головного и спинного мозга. В число широко применяемых в нейрохирургии оперативных методов во второй половине 20 в. вошел стереотаксис. Современная нейрохирургическая операционная является одновременно и физиологической лабораторией, где исследуются закономерности функциональных связей коры головного мозга, подкорковых образований и стволовых отделов мозга и центральная регуляция функций организма.
С начала 20 в. стремление хирургов не только удалять пораженные органы, но и восстанавливать их функцию воплощается в расширяющемся применении пластических операций, направленных на устранение врожденных и приобретенных дефектов. В рамках хирургии развивалась первоначально и трансплантология как учение о пересадке изолированных органов и тканей (так называемая свободная пластика). Важную роль в истории трансплантологии сыграли работы советских ученых по пересадке трупных тканей, выполненные в конце 20-х — начале 30-х гг.: по переливанию фибринолизной крови (В.Н. Шамов, С.С. Юдин), пересадке роговицы (В.П. Филатов) и т.д. Возможность сохранения кровоснабжения органа при его пересадке с применением сосудистого шва, предложенного А. Каррелем в 1902 г., способствовала переходу от трансплантации тканей к трансплантации органов. Современный этап развития трансплантологии, связанный главным образом с пересадками жизненно важных органов, характеризуется интенсивными иммунологическими исследованиями. К 60-м гг. относятся парные пересадки больным печени, легких, поджелудочной железы, а затем и сердца. Наибольшее распространение получили операции пересадки почки. В СССР первая успешная пересадка проведена Б.В. Петровским в 1965 г. Важный и перспективный раздел современной трансплантологии — разработка проблемы создания искусственных органов — сердца, печени, поджелудочной железы.
Характерный для 20 в. процесс нарастающей урбанизации сопровождался ростом промышленного, уличного (транспортного), а также и бытового травматизма, получившим во второй половине века характер «травматической эпидемии» и ставшим одной из наиболее актуальных медико-социальных проблем современности. С этим связано быстрое развитие травматологии и выделение ее вместе с ортопедией в самостоятельную научную дисциплину. Важную роль в их развитии сыграли применение рентгенологического метода исследования, совершенствования техники операций и протезирования.
К числу клинических научных дисциплин и самостоятельных врачебных специальностей, выделившихся в 20 в. из хирургии, относится также урология. Решающую роль в ее становлении сыграло применение цистоскопии, ставшей доступной после усовершенствования цистоскопа, изобретенного М. Нитце еще в 1879 г., и рентгеноконтрастных методов исследования. Французский уролог Ф. Гюйон сконструировал ряд инструментов, в частности зондов для урологических исследований и вмешательств, организовал первую урологическую клинику и первое урологическое научное общество. Чешский ученый К. Павлик разрабатывал методы катетеризации мочеточников, пластических и других операций на мочеполовых органах. Основоположником научной урологии в России стал С.П. Федоров, предложивший такие операции, как субкапсулярная нефрэктомия и чреспузырное удаление аденомы предстательной железы. Французский уролог Ж. Альбарран первым указал на патогенное значение кишечной палочки для мочеполовых путей. Он изобрел также катетеризационный цистоскоп, сделав тем самым катетеризацию мочеполовых путей доступной любому хирургу. Пионер урологии в Португалии Р. Дос. Сантос первым (с 1925 г.) стал производить прижизненную аортографию, почечную артериографию и ангиографию нижних конечностей. Важным этапом в развитии урологии и нефрологии явилось применение в 40-х гг. голландским ученым У. Колффом искусственной почки для борьбы с почечной недостаточностью. Моделирование искусственных мембран и активного транспорта ионов, и в частности создание искусственной почки, — пример практического применения в современной клинике знаний, полученных при изучении физико-химических свойств клетки и проницаемости биологических мембран для различных веществ.
На основе научно-технического прогресса, достижений теоретической и клинической медицины быстро развиваются офтальмология и оториноларингология, которые еще в 19 в. выделились в самостоятельные научные дисциплины и врачебные специальности. Офтальмология обогатилась новыми методами инструментальной диагностики (биомикроскопия, рентгенологические методы исследования, электродиагностика и др.), лекарственного и оперативного лечения и т.д. Среди ее достижений — разработанные школой В.П. Филатова методы кератопластики, оперативное лечение отслойки сетчатки, усовершенствованные методы исправления аномалий рефракции (контактные линзы, телескопические очки и т.д.). Во второй половине 20 в. успешно развивается микрохирургия глаза, в т.ч. с применением лазерного излучения, ультразвука. Значительны достижения в разработке вопросов патогенеза, диагностики и лечения глаукомы — важнейшей проблемы современной офтальмологии.
Активное хирургическое лечение заболеваний уха, горла и носа, основанное на глубоком знании физиологии, способствовало прогрессу оториноларингологии. Физиологическое направление исследовании развивали австрийский ученый Р. Барани, труды которого по физиологии и патологии вестибулярного аппарата и отохирургии получили мировое признание, В.И. Воячек, сыгравший важную роль в развитии отечественной авиационной и космической медицины и др. Значительное достижение современной отиатрии — разработка слуховосстанавливающих операций.
В 20 в. были достигнуты большие успехи в разработке теоретических основ гинекологии: установлены циклические изменения в слизистой оболочке матки; изучены гонадотропные гормоны гипофиза, регулирующие циклические изменения в организме женщины; воздействие половых гормонов на женский организм.
Это послужило основой для применения гормонотерапии при расстройствах менструального цикла. Чрезвычайно важными для развития гинекологии оказались новые методы диагностики: кольпоскопия, введенная в 1925 г. немецким врачом Г. Хинзельманном и цитологическое исследование, предложенное в 1933 г. американским ученым Дж. Папаниколау. Успешно развиваются оперативная гинекология и лучевая терапия опухолевых заболеваний женских половых органов.
В тесной связи с гинекологией, составляя с ней единую учебную дисциплину и врачебную специальность, развивается акушерство. В 20 в. на основе использования достижений асептики, анестезиологии, применения переливания крови, антибактериальной терапии важное место в акушерстве заняли хирургические методы. Классические акушерские пособия (щипцы, поворот плода, эмбриотомия и т.д.) в ряде случаев были заменены кесаревым сечением и другими хирургическими операциями. В 50-х гг. вместо акушерских щипцов были предложены (Т. Мальмстрем, Швеция; В. Финдерле, Югославия) вакуум-экстракторы. Одновременно развивались методы щадящих вмешательств. Так, в 30-х гг. вошел в практику предложенный Н. А. Цовьяновым способ ручного пособия при тазовом предлежании плода. Важную роль в снижении материнской смертности сыграл предложенный в 1923 г. В.В. Строгановым метод лечения и профилактики эклампсии. Современное акушерство для изучения проблем регуляции родовой деятельности, обезболивания родов, физиологии и патологии плода и др. располагает различными специальными методами, включая фоно- и электрокардиографию, амниоскопию, ультразвуковое исследование и т.д.
Для развития педиатрии в 20 в. характерны физиологическое и профилактическое направления, яркими представителями которых были А. Марфан и Б. Вайлль-Алле во Франции, А.А. Кисель и Г.Н. Сперанский в СССР и др. Особую известность получила деятельность основоположника крупной школы немецких педиатров Л. Черни — автора классических работ по физиологии и патологии пищеварения и обмена веществ у детей: венгерского педиатра Я. Бокаи младшего, известного работами в области диагностики и лечения детских инфекций; финского педиатра А. Ильппе — автора выдающихся трудов по физиологии, патологии и выхаживанию новорожденных и недоношенных детей; американского педиатра Б. Спока и др. К наиболее актуальным проблемам современной педиатрии относятся изучение реактивности растущего организма, условий формирования хронических форм заболеваний, разработка рациональных форм специализированной помощи детям и т.д.
Социально-экономические сдвиги и успехи медицины 20 в., особенно снижение детской смертности, смертности от инфекционных болезней, обусловили увеличение продолжительности жизни и связанное с этим так называемое постарение населения. Резкое увеличение числа лиц, доживающих до старческого возраста, определило медико-социальное значение исследований, посвященных как проблеме старения, так и специфическим заболеваниям данного возраста и характерным для него изменениям течения других болезней, и способствовало появлению новых медицинских дисциплин — гериатрии и геронтологии.
Невропатология и психиатрия развивались на основе фундаментальных исследований в области теоретической неврологии. Особое значение имели на рубеже 19—20 вв. труды И.М. Сеченова, Н.Е. Введенского, Ч. Шеррингтона, В.М. Бехтерева, в последующем — учение И.П. Павлова о в.н.д., раскрытие эволюционно-генетических закономерностей формирования структуры и функции головного мозга, учение о цитоархитектонике головного мозга (О. Фогт, Германия, и др.). Представление о горизонтальных уровнях интеграции нервной деятельности в 40-х гг. было дополнено данными о вертикальных уровнях организации мозговой деятельности и их морфофункциональной основе (концепция X. Мегуна о восходящей ретикулярной активирующей системе и др.). Возможности неврологии значительно повысились в связи с применением предложенного X. Дельгадо метода электростимуляции глубинных структур мозга для изучения его функций, микроэлектродной техники с использованием вживленных электродов и стереотаксиса, достижениями в области нейрохимии и т.д.
Важнейшие проблемы современной невропатологии (нарушения мозгового кровообращения, так называемые дегенеративные и опухолевые заболевания ц.н.с., нейроинфекции, травмы, эпилепсия) изучаются с применением ангиографии и реографии, позволяющих исследовать регионарное кровообращение, эхоэнцефалографии и компьютерной томографии в ее разных вариантах, с помощью которых выявляют объемные внутричерепные поражения, электромиографии в случаях патологии нервно-мышечного аппарата, электроэнцефалографии, исследования глазного дна и т.д. Лечебный арсенал обогатился ганглиоблокаторами, транквилизаторами, противосудорожными и другими средствами, воздействующими на нервную систему, возможностями антибактериальной терапии, при нервно-мышечных заболеваниях — баротерапии, электростимуляции, при опухолевых и ряде других заболеваний — нейрохирургическими методами.
Неузнаваемо изменилась в 20 в. психиатрия. Ее прогрессу способствовали дальнейшая разработка клиники шизофрении (Э. Блейлер) и других психических болезней, применение генетического анализа, организация внебольничной психиатрической помощи, которая открыла новые возможности для изучения начальных и пограничных форм психических заболеваний, лечения и реабилитации больных. Коренным образом преобразовали психиатрию эффективные способы лечения, начиная от биологического метода терапии прогрессивного паралича, разработанного в начале 20 в. австрийским психиатром Ю. Вагнер-Яуреггом, инсулиновой и электросудорожной терапии шизофрении и кончая появлением во второй половине 20 в. психофармакологических средств.
Вместе с тем психиатрия явилась ареной острой идеологической борьбы. Австрийский невропатолог, психиатр и психолог З. Фрейд в начале 90-х гг. 19 в. выдвинул концепцию о психическом аппарате как энергетической системе, динамика которой основана на конфликте между различными уровнями психики, прежде всего между сознанием и стихийными, бессознательными влечениями. Психоанализ, предложенный первоначально как конкретный метод изучения бессознательных психических процессов и сыгравший важную роль, т.к. привлекал внимание к миру внутренних переживаний человека и к их значению в происхождении и развитии болезней, при его универсализации до фрейдизма как социальной и философско-антропологической доктрины приводит к неоправданной психологизации не только личности, но и общества. Рамками этого течения ограничены и индивидуальная психология А. Адлера, и аналитическая психология К. Юнга. В конце 30-х гг. возник неофрейдизм (Э. Фромм и др.), получивший наибольшее распространение в США после второй мировой войны. Психоаналитические взгляды с тенденцией к биологизации личности присущи и немецкому психиатру Э. Кречмеру. В его учении, выдвинутом в первой трети 20 в., о связи между строением тела и характером, о «кругах темпераментов», в каждом из которых есть нормальный, психопатический и психотический варианты, отрицается качественное отличие психозов от неврозов и вариантов нормы. В то же время работы Э. Кречмера, как и З. Фрейда, обогатили психотерапию и в методическом отношении, и в связи с накоплением клинических наблюдений ценными практическими данными. К идеалистическим течениям относится и так называемая антипсихиатрия, трактующая расстройства психической деятельности как выражение присущего человечеству и необходимого ему иррационального начала.
Развитие венерологии характеризовалось сделанными в начале 20 в. фундаментальными открытиями в изучении сифилиса и разработкой системы организационных мероприятий по борьбе с венерическими болезнями. В 1903 г. Э. Ру провел успешные эксперименты по заражению сифилисом обезьян. В 1905 г. немецкие ученые Ф. Шаудинн и Э. Гоффманн открыли возбудителя сифилиса — бледную спирохету (трепонему). В 1906 г. их соотечественники А. Вассерман и А. Нейссер заложили основы серодиагностики сифилиса. Важное значение имело изучение японским ученым X. Ногучи сифилитического поражения ц.н.с. Была разработана терапия сифилиса сальварсаном (П. Эрлих, С. Хата, 1909), препаратами висмута (К. Левадита, 1921), а в 40-х гг. — пенициллином. В 1913 г. был выделен в самостоятельную нозологическую форму паховый лимфогранулематоз — четвертая венерическая болезнь. Важной организационной формой борьбы с венерическими болезнями явилось создание в СССР кожно-венерологических диспансеров.
Дерматология развивалась в 20 в. главным образом в направлении экспериментально-клинического изучения патогенеза дерматозов, разработки проблем аллергии и иммунитета при заболеваниях кожи. Важнейшие проблемы современной дерматологии — дальнейшее изучение физиологии кожи и ее патологии, обусловленной нервно-эндокринными расстройствами, вирусными, грибковыми, опухолевыми и другими заболеваниями — изучаются с применением электронной микроскопии, биохимических, иммунологических, генетических и других методов, что открывает пути для разработки способов этиотропной и патогенетической терапии дерматозов.
Для стоматологии в 20 в. характерно развитие, наряду с терапевтическим, хирургическим и ортопедическим ее разделами, детской стоматологии, разрабатывающей методы лечения и профилактики стоматологических заболеваний с учетом особенностей, присущих каждому периоду развития ребенка. Хирургическая стоматология превратилась в 20 в. в крупный самостоятельный раздел хирургии — челюстно-лицевую хирургию, быстрое развитие которой связано с разработкой оперативных методов лечения огнестрельных ранений челюстно-лицевой области, имевших массовое распространение во время первой и второй мировых войн. Ведется также интенсивная разработка проблем стоматоневрологии. В современном комплексном лечении стоматологических заболеваний применяются медикаментозные средства, физиотерапевтические процедуры, ультразвук и т.д.
Во второй половине 20 в. успешно развивается как самостоятельный раздел клинической медицины выделившаяся из общей хирургии проктология, изучающая болезни толстой кишки. Как и другие новые разделы, она имеет комплексный интегрирующий характер, поскольку в медицинской практике наряду с хирургами лечением проктологических больных занимаются терапевты-гастроэнтерологи, инфекционисты, а теоретические основы проктологии закладываются на базе соответствующих разделов физиологических и морфологических наук. Это типичная иллюстрация возрастающего сотрудничества представителей различных специальностей в изучении патогенеза, в разработке методов диагностики и лечения, сопровождающего процесс дифференциации основных отраслей медицины на множество специальных дисциплин и разделов.
Гигиенические науки. Развитие гигиены в 20 в. ознаменовалось внедрением новых более эффективных методов исследования, расширивших возможности изучения объектов окружающей среды и их влияния на здоровье человека. Так, существенную роль в развитии гигиены сыграло внедрение физических методов определения температуры, влажности и движения воздуха, шума, теплового излучения. Появление радиационного фактора повлекло за собой необходимость разработки методов оценки радиационной загрязненности воздушной среды, воды, пищевых продуктов и др. Бактериологические методы нашли широкое применение для характеристики бактериальной зараженности воздуха, воды, почвы, пищевых продуктов и других объектов окружающей среды. Внедрение в гигиеническую практику экспериментально-токсикологических методов дало возможность устанавливать в опытах на животных предельно допустимые концентрации ядовитых веществ и соединений в воздухе производственных помещений и окружающем воздушном бассейне, воде и других объектах. Применение в гигиене клинических методов позволяет выявлять изменения в организме людей, возникающие в результате воздействия на человека различных неблагоприятных факторов производственной и природной среды. Наконец, статистические методы позволяют обобщить полученные практические и экспериментальные данные, проанализировать динамику санитарного состояния населения путем сопоставления уровней смертности, заболеваемости, физического развития с условиями жизни, быта и труда населения. Возникла и получила значительное развитие социальная гигиена.
Возросшие задачи, усложнение методов исследования и расширение их диапазона вызвали дифференциацию гигиенических наук. Так, самостоятельной дисциплиной стала гигиена труда, занимающаяся изучением факторов производственной среды и их влияния на здоровье работающих, разработкой гигиенических нормативов и санитарных мероприятий, имеющих своей целью создать на промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве безопасные условия труда. Большое развитие в гигиене труда получила промышленная токсикология, позволяющая не только охарактеризовать сдвиги в организме работающих в результате воздействия различных ядовитых веществ, но и регламентировать в законодательном порядке предельно допустимые концентрации этих веществ в окружающей среде. Самостоятельной отраслью стала гигиена детей и подростков, занимающаяся изучением физического развития подрастающего поколения, влияния окружающей среды на детский организм, условий занятий в школах, в детских садах и яслях, разрабатывающая профилактические мероприятия, направленные на улучшение здоровья детей и др. Большое значение приобрела гигиена питания, изучающая физиологические и гигиенические основы рационального, в т.ч. лечебного питания, регламентирующая санитарные требования к предприятиям общественного питания, разрабатывающая мероприятия по предупреждению и борьбе с пищевыми интоксикациями и т.д. Самостоятельной стала коммунальная гигиена, предмет изучения которой — благоустройство и планировка населенных мест, санитарная охрана водоисточников, разработка гигиенических требований к строительству жилых и общественных зданий и санитарно-бытовых учреждений (бань, прачечных, душевых павильонов и т.д.), методам очистки населенных мест. От общей гигиены отделились также некоторые специальные разделы, занимающиеся разработкой гигиенических вопросов применительно к определенным видам труда, — сельскохозяйственная, военная, водная, железнодорожная, авиационная гигиена. В 50-х гг. самостоятельной дисциплиной стала радиационная гигиена, решающая вопросы, касающиеся предельно допустимых концентраций радиоактивных веществ в воздухе, воде и других объектах, защиты людей от действия ионизирующих излучений и т.д.
Существенно возросла роль экологии, которая превратилась из сугубо биологической дисциплины в предмет комплексного исследования многих естественных, общественных, медицинских. сельскохозяйственных и технических наук. В литературе получили развитие представления о «глобальной экологии», «геогигиене», или «планетарной гигиене». Экологические проблемы стали обсуждаться на многочисленных международных конгрессах, симпозиумах и семинарах, т.к. сложившаяся экологическая ситуация затрагивает жизненные интересы всего человечества. В этом отношении важнейшей и наиболее сложной гигиенической проблемой, вставшей перед человечеством в связи с научно-технической революцией в 20 в., является загрязнение среды обитания человека. Эта проблема возникла давно, с появлением крупной промышленности, но особенно острой она стала во второй половине 20 в.
Процессы урбанизации в сочетании с интенсивной индустриализацией создали такие условия, когда процессы самоочищения воздуха, воды и почвы уже не в состоянии справиться с нарастающим поступлением в биосферу различного рода загрязнений. Нерегулируемое и неконтролируемое использование природных ресурсов влечет за собой интенсивное загрязнение воздушной среды и водоисточников, накопление в почве вредных для здоровья веществ, поступление их в продукты питания и т.п.
Исчезновение зеленых пространств, теснота в мегалополисах представляют собой угрозу для здоровья, вызывают усталость, болезни, неврозы, Загрязненная атмосфера снижает производительность труда (по данным амер. экспериментов) на 15%, ослабляет защитные силы организма по отношению к инфекциям и другим неблагоприятным факторам окружающей среды.
Особую опасность для населения городов и промышленных центров представляют продукты сгорания угля и нефти, взвешенные частицы пыли и металлов. Ежегодно выбрасываются в окружающую среду сотни миллионов тонн золы и различных химических веществ, а в открытые водоемы поступают десятки миллионов кубометров промышленных и хозяйственно-бытовых неочищенных сточных вод, содержащих концентрированные растворы различных вредных химических соединений. Это приводит к накоплению в воде различных химических соединений, металлов, инсектицидов, загрязнителей, а также устойчивых, не существовавших ранее в природе соединений. Загрязнение водоемов ограничивает использование пресной воды, нарушает жизнедеятельность водных растений, планктона, рыб, установившийся в природе водный баланс.
Быстро нарастает загрязнение почвы промышленными, бытовыми и с.-х. отходами. Вокруг многих промышленных производств образовались искусственные биогеохимические провинции с повышенным содержанием в почве свинца, мышьяка, марганца, фтора, ртути, кадмия и других химических элементов, что приводит к увеличению их содержания в растениях и организме животных, используемых человеком для питания. Вредоносное действие неконтролируемого загрязнения ядохимикатами объектов природной среды проявляется во второй половине 20 в. в форме острых отравлений, распространением различных хроническими заболеваний химической этиологии; наконец возможны канцерогенный эффект и отдаленные последствия, связанные с мутагенным действием некоторых пестицидов.
Для оценки относительной опасности распространения в окружающей среде различных загрязнителей в 60—70-х гг. была разработана система так называемых стресс-индексов, с помощью которых устанавливается, какие загрязнители окружающей среды требуют первоочередного внимания. Рассчитанные стресс-индексы показали, что наибольшую опасность для окружающей среды в 70-х гг. представляли пестициды, тяжелые металлы; увеличивается значение отходов атомных электростанций. Ухудшение состояния окружающей среды в дальнейшем будет связано, в первую очередь, с высокими темпами развития химической промышленности. Успехи синтетической химии и бурный прогресс химической промышленности вызвали появление огромного количества новых химических соединений, с которыми организм человека не контактировал в процессе своей эволюции.
Все более серьезной становится проблема защиты населения от возрастающего влияния таких вредных физических факторов окружающей среды, как шум, вибрация, электромагнитные поля различных частотных диапазонов, что связано с увеличением мощности двигателей различных видов транспортных средств, широким использованием электроприборов в коммунальном и жилищном строительстве, в промышленности и в быту, ростом числа и мощности радио- и телестанций, радиолокационных установок. Шум мешает отдыху людей днем, вызывает у них бессонницу ночью, служит причиной заболеваний нервной системы, способствует развитию гипертонической болезни; на работе шум ослабляет внимание, память и реакцию, изматывает физически и психологически, сокращает на 30% производительность ручного труда и на 60% — умственного.
Одно из нежелательных последствий научно-технического прогресса — увеличение количества мутагенных факторов физической и химической природы в среде обитания человека. Из физических факторов на первом месте по мутагенному действию стоят различные виды ионизирующего излучения.
Решение проблемы загрязнения окружающей среды потребовало, с одной стороны, осуществлять контроль над процессами идущих загрязнений, а с другой — разрабатывать новые научные направления, которые позволили бы предотвратить нарастание концентрации загрязнителей, понять природу их действия и найти способы защиты от их влияния.
Прямая зависимость между уровнем атмосферных загрязнений и состоянием здоровья человека была общепризнана давно. Однако исследования в этом направлении начали интенсивно развиваться после лондонского смога 1952 г., приведшего к смерти 4 тыс. человек. Воздействие смога оказалось наиболее трагическим для людей, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочного аппарата, а также для лиц пожилого возраста и детей. В результате сравнительного изучения смертности населения отдельных стран с различной степенью загрязнения атмосферного воздуха в Англии и других странах были получены высокие коэффициенты корреляции между загрязнением воздуха и уровнем смертности населения.
Другим наиболее часто используемым методом исследования стал метод постоянного ежедневного учета заболеваемости или смертности по отдельным периодам и сопоставления полученных показателей с уровнем загрязнения воздуха в пределах одного города или территории. Этот метод дал возможность установить корреляцию между характером заболеваемости или смертности и определенными типами загрязнителей атмосферного воздуха.
Медицинские исследования показали, что загрязненный атмосферный воздух является одним из ведущих факторов в этиологии и патогенезе респираторных заболеваний, бронхитов, бронхиальной астмы, эмфиземы легких, пневмонии, злокачественных новообразований органов дыхания. В 1972 г. исследовательский совет Национальной академии наук США опубликовал доклад, в котором более убедительно, чем когда-либо, была показана независимость заболеваемости раком легких от степени загрязнения атмосферного воздуха. В докладе, основанном на результатах двухлетних исследований, отмечалось, что заболеваемость раком легких среди лиц, живущих в городах, в 2 раза выше, чем среди жителей сельской местности. Доказано, что мутагенное действие ионизирующих излучений обладает всеобщностью, а также беспороговостью, т.е. любые дозы излучения могут вызывать генетические повреждения. Расчеты генетиков показали, что даже незначительные дозы могут привести к увеличению численности больных наследственными болезнями в 2 раза.
Способностью вызывать генетические повреждения обладают и многие химические соединения, причем последствия мутагенного действия химических соединений были осознаны лишь в 60—70-х гг., в период интенсивного развития химической промышленности. Установлено, что некоторые химические соединения по интенсивности мутагенного действия превосходят ионизирующее излучение. В связи с этим в литературе начиная с 60-х гг. утвердился термин «супермутагены», которым обозначаются вещества, обладающие в десятки и сотни раз большей мутагенной активностью, чем радиация, и не влияющие при этом в заметной мере на жизнеспособность клеток и организмов. Список таких супермутагенов постоянно расширяется. В 60—70-х гг. обнаружена цитогенетическая активность ряда пестицидов, выявлена мутагенная и канцерогенная активность окислов азота, нитратов, нитритов, нитрозаминов и ряда других нитросоединений. Попадая в оружающую среду, мутагенные вещества и соединения взаимодействуют друг с другом, в результате чего создаются высокие концентрации неизученных опасных мутагенных комплексов, смесей и соединений в атмосферном воздухе и водоисточниках.
В связи с недостаточным вниманием к проблеме охраны окружающей среды, а также и санитарно-техническим, санитарно-гигиеническим и социально-гигиеническим мерам защиты населения от воздействия неблагоприятных ее факторов среди многих экологов Западной Европы и Северной Америки получила распространение так называемая пессимистическая концепция, сторонники которой считают неизбежным быструю деградацию окружающей среды и истощение природных ресурсов в результате роста населения и развития общественного производства. Они выступают с призывами к ограничению потребления, сокращению развития экономики и технологии, ограничению народонаселения и т.д.
Вместе с тем во всех странах осуществляются различные мероприятия с целью снижения загрязнений воздуха до уровней, безвредных для человека: вводится новая технология производственных процессов, совершенствуются методы сжигания топлива, твердое топливо заменяется газообразным, запрещается пользование этилированным бензином в городах и т.д.
Во многих странах разработаны национальные стандарты или предельно допустимые концентрации токсических веществ в водопроводной воде и атмосферном воздухе; большое значение приобретает разработка международных критериев применительно к наиболее частым загрязнителям окружающей среды. Создаются государственные организации, специальные программы, отпускаются значительные средства. Разрабатываются очистные средства по существу для всех технологических процессов, приводящих к загрязнению воздушного бассейна и водоисточников. Однако главный путь охраны природной среды от загрязнений ученые видят в преобразовании технологических процессов в замкнутые циклы.
С конца 60 — начала 70-х гг. внимание ученых различных отраслей знаний и широкой мировой общественности сосредоточено на изучении глобальных последствий загрязнения окружающей среды, и особенно воздушного бассейна. Борьба против наступления экологического кризиса стала необходимостью для всех стран и народов, превратилась в один из важных факторов международной политики и международного сотрудничества. При этом, в связи с возрастающим с каждым годом использованием радиоактивных веществ и источников ионизирующих излучений в промышленности и сельском хозяйстве, в медицине и при научных исследованиях на одно из первых мест выдвинулась проблема радиационной защиты человека.
ВОЗ осуществляет широкую программу медико-биологической оценки качества окружающей среды, проводит работу по установлению санитарно-гигиенических критериев оценки загрязнений в местах человеческих поселений. Совместно с Всемирной метеорологической организацией ВОЗ занимается исследованием качества воздуха и воды и городах и промышленных центрах с помощью международной сети наблюдательных станций.
В 1970 г. в системе ЮНЕСКО был организован Координационный совет программы «Человек и биосфера». В мае 1971 г. Генеральному секретарю ООН было вручено обращение 2200 ученых 23 стран, в котором содержалось «суровое предупреждение о небывалой общей опасности, грозящей человечеству». Это заявление сыграло важную роль в стимулировании международной деятельности в области охраны окружающей среды. В том же году в Праге Европейская экономическая комиссия ЮНЕСКО провела симпозиум по проблеме состояния и охраны окружающей человека среды. В соответствии с постановлением XXIII Сессии Генеральной Ассамблеи ООН в июне 1972 г. в Стокгольме состоялась конференция ООН по проблемам окружающей человека среды.
Специальная комиссия Научного комитета по проблемам окружающей среды (СКОПЕ) Международного совета научных союзов в 1971 г. обосновала необходимость создания международной службы глобальных наблюдений за происходящими в биосфере изменениями как под воздействием природных факторов, так и в результате человеческой деятельности. Она сформулировала требования к так называемой системе мониторинга и определила ряд основных параметров состояния окружающей среды, которые должны стать объектом научных наблюдений и измерений.
Развитие социальной гигиены и медицинской социологии. На рубеже 19—20 вв. М. начала испытывать влияние социологии, которая стала в этот период одним из ведущих разделов обществоведения. Параллельное развитие общей теоретической социологии и эмпирических социологических исследований начало сменяться установкой на их интеграцию. Рабочее движение и марксистская идеология оказали значительное влияние на возникновение и развитие социал-гигиенической мысли. Это влияние ярко проявилось в трудах одного из основоположников отечественной гигиены Ф.Ф. Эрисмана. Одним из первых в Европе идеи марксистской социологии в М. развил румынский врач С. Стынка. В своей диссертации «Социальная среда как патологический фактор» (1891) он на основе анализа большого статистического материала показал, что социальная среда является одним из ведущих факторов, определяющих уровень здоровья и характер патологии населения, что без учета влияния социальной среды профилактическая М. не может быть по-настоящему эффективной. С. Стынка один из первых включил в число социальных факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье и тормозящих развитие общественного здравоохранения, милитаризацию экономики. Основным средством профилактики С. Стынка считал «медико-социальную терапевтику», под которой понимал комплекс мер, направленных прежде всего на искоренение социальных источников патологии. Близких взглядов в конце 19 — начале 20 в. придерживались и другие врачи-марксисты: Л. Варынский — известный деятель польского социалистического движения, болгарский врач-коммунист Р. Ангелов, украинский врач-марксист и общественный деятель С.А. Подолинский, врачи-большевики Н.А. Семашко, С.И. Мицкевич, А.Н. Винокуров, З.П. Соловьев и др. Обосновывая в ряде работ марксистское положение о том, что закономерности развития общества вытекают из основных особенностей социальной жизни, производства, распределения и потребления, видный историк медицины и социал-гигиенист Г. Сигерист видел будущее в слиянии лечебной и профилактической помощи. Врач будущего, по мнению Г. Сигериста, — социальный врач.
Основоположники социальной гигиены в Германии и Австрии А. Гротьян, Л. Телеки, А. Готтштейн, А. Фишер и др. внесли существенный вклад в разработку ее теоретических и методических основ, определение ее предмета и задач. Они выполнили большое количество разнообразных социально-гигиенических исследований, убедительно показавших связь определенных условий социальной среды с отдельными формами патологии, много сделали для становления социальной гигиены как предмета преподавания, создали фундаментальные учебные пособия. Преодолев упорное сопротивление многих маститых представителей традиционной гигиены, опасавшихся, что повышенный интерес к социальным аспектам патологии может нанести ущерб тщательно оберегаемой ими беспартийности врача и привести к распространению революционных взглядов, они сумели обосновать необходимость проведения социал-гигиенических исследований, показать ограниченность узколабораторного экспериментально-бактериологического направления, на основе которого невозможно исследование таких насущных проблем, как борьба с алкоголизмом, венерическими болезнями, туберкулезом. В Германии было основано первое общество социальной гигиены, гигиены и медицинской статистики (1905), сыгравшее большую роль в создании организаций, занимавшихся вопросами охраны здоровья детей, борьбы с туберкулезом и алкоголизмом.
Организатор первой в Западной Европе самостоятельной кафедры социальной гигиены Берлинского университета (1920) А. Гротьян в предисловии к книге, посвященной проблемам алкоголизма (1898), впервые четко сформулировал метод и задачу конкретного социал-гигиенического исследования. «Представление об алкоголизме, которое дает медицина, мы должны дополнить социологией и найти такой подход, который может стать основой эффективной борьбы с этим злом, даже если он будет противоречить мнению известных авторов, недооценивающих или игнорирующих влияние социальных факторов, т.е. простое гигиеническое описание мы должны превратить в социально-гигиеническое». Уже в начале 900-х гг. немецкими социал-гигиенистами была предпринята попытка обобщить имеющиеся исследования по социальной гигиене. С 1902 г. А. Гротьян вместе с Ф. Кригелем начал издавать исчерпывающее библиографическое обозрение литературы по социальной гигиене на основных европейских языках в журнале «Jahresberichtes über Soziale Hygiene und Demographic». Целью этого журнала было «собрать воедино работы по социальной гигиене и медицинской статистике». С 1906 г. А. Гротьян в течение пяти лет редактировал журнал по социальной гигиене «Zeitschrift für soziale Hygiene». В 1912 г. вышел в свет подготовленный А. Гротьяном и И. Каупом с привлечением около пятидесяти авторов двухтомный Энциклопедический словарь социальной гигиены, в котором нашло исчерпывающее отражение состояние социально-гигиенической мысли начала 20 в. В этом же году появилось первое издание капитального труда А. Гротьяна «Социальная патология. Опыт учения о болезнях с точки зрения социальных отношений как основа социальной гигиены» (переведена на русский язык в 1925—1926 гг. в качестве учебного пособия), в котором была предпринята первая попытка показать основные группы заболеваний с точки зрения их социальной обусловленности и наметить пути общественной борьбы с ними. В этой работе он впервые дал определение предмета и задач социальной гигиены: «Собственной задачей социальной гигиены является изучение всех сторон общественной жизни и социальной среды с точки зрения их влияния на человеческий организм и на основе этого изучения — отыскание мероприятий, которые никоим образом не должны иметь всегда только чисто медицинский характер, но могут захватывать часто и область социальной политики или даже общей политики». Рассматривая социальную гигиену как науку описательную и в то же время нормативную, он считал, что социальная значимость той или иной болезни определяется ее распространенностью, и поэтому медицинская статистика «является основой всякого социально-патологического исследования, т.к. она устанавливает распространенность болезней по биологическим и социальным группам». В 10—20-х гг. 20 в. фундаментальные руководства по социальной гигиене выпустили также А. Фишер («Основы социальной гигиены», 1913; рус. пер. под ред. П.И. Куркина и З.П. Соловьева, 1929), Б. Хайес («Руководство по социальной гигиене», 1921; пер. на рус., укр., польский и япон. языки), А. Готтштейн, А. Шлоссманн и Л. Телеки («Руководство по социальной гигиене» в 6 томах, 1925—1927).
Социальная гигиена во Франции развивалась главным образом применительно к проблемам охраны материнства и детства, борьбы с туберкулезом и венерическими болезнями. Интерес к социально-гигиеническим исследованиям усилился в связи с необходимостью изучения санитарных последствий первой мировой войны. Одним из первых курс социальной гигиены начал читать ученик и последователь Л. Пастера П. Дюкло (1840—1904). В 1919 г. в Парижском университете был введен курс социальной гигиены. Затем ее начали преподавать в других университетах, хотя курс не имел единой для всех учебных заведений программы. В 1920 г. один из крупнейших французских социал-гигиенистов, впоследствии видный деятель ВОЗ. Ж. Паризо (1882—1967) получил звание профессора гигиены и социальной медицины Ж. Паризо издавал журнал «Revue d'hygiène et de médecine sociales». В Collège de France Э. Бюрне (1873—1960) читал курс экспериментальной медицины и социальной гигиены. В 1925 г. Ж. Леклерк, став профессором судебной медицины в Лилле, объединил преподавание судебной, промышленной и социальной медицины. Особое развитие как отдельное направление получила во Франции социальная педиатрия. Был создан специальный институт социальной педиатрии во главе с Б. Вайлль-Алле (1875—1958), в котором Р. Дебре читал курс социальной педиатрии. Одним из основоположников социальной гигиены во Франции был фтизиатр Л. Бернар. В ряде работ он показал ведущую роль социальных условий в возникновении и распространении туберкулеза, значение государственных социальных и медицинских мер в борьбе с ним. Л. Бернар участвовал в создании (1920) и был бессменным секретарем Международного противотуберкулезного союза, играл важную роль в создании и работе Организации здравоохранения Лиги Наций. После его смерти была учреждена медаль и премия фонда Л. Бернара, присуждаемая за лучшие работы в области социальной медицины Всемирной ассамблеей здравоохранения.
Видными представителями социальной медицины в Бельгии были профессор бактериологии и гигиены Льежского университета Э. Мальвою, его преемник Ж. Ван-Бенеден и особенно Р. Санд — первый профессор кафедры социальной гигиены Брюссельского университета, один из крупнейших социал-гигиенистов в Европе 20 в. Он принимал активное участие в деятельности Всемирной организации здравоохранения с момента ее основания, его труды в значительной степени определили теоретическую платформу ее организации. Основная социал-гигиеническая концепция Р. Санда — разрешение противоречий капиталистического строя, с помощью социальной медицины, и в частности психогигиены.
В Италии социально-гигиеническое направление получило особое развитие в области профессиональной патологии и нашло отражение в трудах Дж. Тропеано, Л. Девото, Э. Леви, а также в фундаментальных руководствах по социальной медицине. В 1908—1913 гг. Э. Бонарди читал курс социальной медицины в Милане, Дж. Тропеано с 1910 г. — в Неаполитанском университете. В других университетах преподавание социальной медицины совмещалось с судебной медициной и гигиеной или было факультативным. Вице-президент Национального общества социального обеспечения инвалидов войны Э. Леви в 1920 г. основал в Риме Институт предупредительной медицины и социальной помощи и журнал «Социальное обеспечение».
В годы второй мировой войны и в после военные годы идеи социальной медицины получили широкое распространение в Англии. Интерес к ним был связан главным образом с трудностями военного времени и необходимостью ликвидации санитарных последствий войны. Одной из важнейших мер английского правительства, имевшей большое социально-гигиеническое значение, явилось введение Государственной службы здравоохранения (ГСЗ), предусматривающей бесплатную медпомощь. Создание Государственной службы здравоохранения — часть так называемого плана благосостояния, принятого британским правительством в 1943 г.
В США наибольшего развития медицинская социология достигла после второй мировой войны, причем до конца 50-х гг. ею занимались лишь профессиональные социологи. «В самом начале истории медицинской социологии, — писал американский социолог С. Блюм, — медицина для многих ученых лишь служила ареной поиска. Основными задачами в то время были проверка имеющихся знаний, установление обоснованности и значимости концепций, предложений и теорий. Никто из этих людей не пытался примкнуть к медицинским учреждениям и медицина не пыталась привлечь их ни в каком другом качестве, кроме как консультантов...» В конце 50 — начале 60-х гг. к разработке проблем медицинской социологии примкнули и врачи, что сразу изменило направленность проводимых медико-социологических исследований, приблизив их к запросам практической М. и здравоохранения. В частности, в 60-х гг. усилия американской медицинской социологии были направлены главным образом на выявление связи социальных факторов с заболеваемостью, изучение деятельности медицинских служб и форм обеспечения населения медпомощью, социологических аспектов здравоохранения.
Вместе с тем предмет медицинской социологии остался недостаточно определенным. Так, например, известный американский социолог Д. Миканик сводит предмет медицинской социологии к изучению взаимоотношений между врачом и пациентом, считая при этом, что основной функцией здравоохранения является оказание медицинской помощи.
Современные американские медицинские социологи П. Кендалл и Р. Мертон выделяют четыре направления (категории) медико-социологических исследований: социальная этиология и экология болезни; социальные компоненты в лечении и восстановлении трудоспособности; медицина и медпомощь как социальный институт; социология медицинского образования.
Медицина народов, населявших территорию СССР (до 1990 г.)
Медицина в Армении. Армянское нагорье — один из древнейших центров мировой цивилизации, около 4—3 тысячелетия до н.э. территория Армении входила в состав государства субареев, являющегося некоторое время одним из крупнейших на Древнем Востоке. Племена, населявшие Армянское нагорье, испытывали влияние шумерской, хеттской, вавилоно-ассирийской и иранской культур. После распада Хеттского государства (около 12 в. до н.э.) переднеазиатское влияние на культуру Закавказья ослабело: наступил период бурного самостоятельного культурного развития, племена Армянского нагорья начали объединяться в союзы, на основе которых в 9 в. до н.э. сложилось государство Урарту, распавшееся в начале 6 в. до н.э. Во второй половине 1 тысячелетия до н.э., когда армянские племена создавали свои государственные объединения, в основном завершился процесс формирования армянской народности. С этого времени, несмотря на многократные нашествия и относительно длительные периоды потери политической самостоятельности, начала развиваться самобытная культура армянского народа.
На развитие медицинских знаний Армении сильное влияние оказали традиции народов Древнего Востока: шумеров, хеттов, фригийцев, ассирийцев, связи армян с народами Ирана, Греции, Сирии, Византии и позднеарабского халифата. Но, наследовав ряд древневосточных и античных традиций, древняя культура Армении развивалась самостоятельным путем. Медико-гигиеническая деятельность существовала в Армении с древнейших времен. До нашего времени дошли разнообразные свидетельства этого: предметы фаллического культа (каменные изображения мужских половых органов различных размеров — символ плодородия, по поверьям помогавшие от бесплодия, гипогалактии и др.), каменные и металлические изображения матери с грудным ребенком на руках (символ материнства и плодородия в природе), относящиеся к эпохе урартийцев медицинские инструменты бронзового века, черепа со следами трепанации и т.п.
Древние армяне накопили немало практических знаний в области врачевания. В армянской народной М., в фольклоре и в средневековой армянской литературе сохранились от древних времен сведения о медицинских знаниях эмпирического характера, заговоры, заклинания, молитвы и др., к которым прибегали с лечебными целями. В религиозных воззрениях языческого периода у армян был культ божеств, имевших отношение к сохранению здоровья, предохранению от болезней, а также покровительствовавших медицинской и медико-гигиенической деятельности. Армения славились лекарственными растениями, которые вывозились в другие страны. Еще в 1 в. до н.э. в Армении существовали сады для разведения лекарственных растений. Из армянской медицины к другим народам проникли также армянская глина, бура, нашатырь и др.
С 3 в. н.э. Армения ориентировалась на Византию. Армянская молодежь группами отправлялась для обучения в Афины, Александрию и другие центры эллинистической культуры. Принятие в 4 в. армянами христианства и более тесные связи с Византией оказали большое влияние на армянскую медицину. Усилилось также влияние греческой культуры: в Армении были открыты греческие и сирийские школы.
К 5 в. н.э. армяне имели свою достаточно разработанную медицинскую терминологию. Медицинские произведения армянских авторов раннего средневековья носят отпечаток религиозной идеологии, но тем не менее в Армении М. имела более светский характер, чем М. народов Востока.
В 3 в. в Армении были открыты первые гражданские лечебные учреждения: в 260—270 гг. в местности Арбенут — лепрозорий на 35 прокажённых. Начиная с 4 в. стали появляться больничные учреждения и приюты для немощных, находившиеся в ведении духовенства, но содержавшиеся за счет населения. В решении Армянского церковного собора 365 г. было записано: «Для пресечения распространения заразных заболеваний соорудить: для прокаженных лепрозории, для больных — больницы, для хромых и слепых — приюты. Для содержания этих учреждений установить на города и селения повинности и подати, назначить смотрителей и служителей. В каждом местечке... открыть больницы». Наибольшей известностью пользовались больницы в Западной Армении, в городах Севастии и Кесарии. Кесарийские больницы имели госпитальные корпуса, изоляторы, приюты и др.
5—7 вв. — «золотой век» армянской культуры. В начале 5 в. был введен армянский алфавит. В 5—6 вв. на армянский язык были переведены труды древнегреческих философов, греческих, римских и византийских врачей (Галена, Асклепиада, Орибасия, Павла Эгинского и др.). Армянские ученые того времени были знакомы с произведениями лучших представителей классической греческой медицины. С 5 в. в армянскую медицину наряду с армянскими терминами в большом количестве проникли греческие медицинские понятия и термины, которые до 10—11 вв. применялись параллельно с армянскими. Влияние греческой медицины не прерывалось вплоть до 8 в.
К 5—6 вв. относится деятельность выдающихся армянских просветителей, которые подобно средневековым ученым других стран обладали энциклопедическими познаниями. Так, в книге Езника (4—5 вв.) «Опровержение ересей» содержатся описание учения о четырех соках организма, сведения о действии мандрагоры, брионик, индийской конопли; католикос Армении Иоанис Мавдакуни (5 в.) писал об отрицательном влиянии пьянства на сердце, желудок и кишечник. Егише подробно описал методы обследования больного (ощупывание печени, пульса и др.), писал о поражении психики — зрительных иллюзиях, эпилепсии.
В 5 в. во временно входившем в состав Армении городе Эдессе (северная Месопотамия; город был населен армянами) создается академия по византийскому образцу. В эдесской академии преподавалась медицина.
В 5 в. медицина у армян была на высоком уровне, врачи умели исследовать пульс, выслушивать сердце и ощупывать печень. Армянские ученые того времени были знакомы с произведениями лучших представителей классической греческой М. До нашего времени дошли медицинские инструменты: бритвы, пинцеты, эпиляторы, кюретки и т.д. Армянские хирурги при операциях применяли в качестве болеутоляющих средств пактуарий, белладонну, индийскую коноплю, мандрагору.
В 698—705 гг. Армения была покорена арабами. Арабские нашествия причинили огромные разрушения Армении и вызвали временный упадок экономики и культуры армянского народа. Цветущая, духовно богатая Армения была обращена в пустыню. Культурная жизнь в 8—9 вв. была подавлена. Только в 914—921 гг. из центральных областей Армении арабы были окончательно изгнаны.
В период с 922 по 1044 г. в условиях длительного мира Армения пережила экономический и культурный расцвет. В середине 11 в. турки-сельджуки завоевали большую часть территории страны. Из разоренной сельджуками Армении началась значительная эмиграция врачей, ученых и ремесленников в Киевское государство и другие славянские страны. Во Львове в это время беженцы-армяне образовали особый армянский квартал.
Армянские врачи наряду с греческими и сирийскими сыграли видную роль в деле ознакомления народов арабских халифатов с древнегреческой медицинской литературой. Среди выдающихся врачей эпохи возникновения арабской М. были врачи-армяне Бахтишуа и Серапион. Георгий Бахтишуа в 8 в. стоял во главе знаменитой Гундишапурской больницы на юге Ирана и был родоначальником фамилии, давшей ряд выдающихся врачей. Среди членов фамилии Бахтишуа были переводчики и авторы медицинских произведений, сыгравших большую роль в развитии М. в арабских странах. Сила медицинских традиций в Армении была так велика, что ряд сирийских и арабских врачей, поселившихся в Армении, писали свои медицинские произведения на армянском языке, причем это происходило в такое время, когда арабский язык был официальным научным языком.
10—12 вв. называют периодом армянского Ренессанса, подъема культуры, на фоне которого получила распространение антифеодальная светская идеология. Возрос интерес к просвещению, естественнонаучным и философским проблемам. Появились высшие школы, академии и университеты в Ани, Ахпате, Санаине, Гладзоре, Татеве, Сезабе, Сизе и др. Больших успехов достигла армянская М.: были переведены с греческого и арабского языков на армянский многие произведения выдающихся врачей (Ибн Сины, Рази и др.), а также написаны оригинальные медицинские труды. Подъем армянской М. в 11—15 вв. связан с деятельностью Григора Магистра, Мхитара Гераци и Амирдовлата Амаснаци.
Крупнейший деятель армянской светской культуры Григор Магистр (990—1053), не будучи врачом по профессии, в ряде своих произведений обсуждал медицинских проблемы. В 1020—1040 гг., будучи руководителем высшей духовной школы в Санаине (так называемая академия Магистра), в числе других наук преподавал М. Обучение М. по византийскому и арабскому образцу проводилось в больнице, и Григор Магистр демонстрировал учащимся больных в Санаинской больнице. Виднейшим деятелем М. средневековой Армении был Мхитар Гераци (вторая половина 12 в. — начало 13 в.) — автор знаменитого труда «Утешение при лихорадках» (1184). Гераци рассматривал человека в тесной связи с природой, подчеркивая в то же время значение влияния окружающей среды на возникновение болезни, в частности лихорадки. В своих медицинских воззрениях Гераци был близок Гиппократу, стоял на позициях необходимости всестороннего обследования больного, рассматривал болезнь как явление, в основе которого лежит материальное начало. В то же время в понимании сущности патологического процесса он придерживался галеновских представлений. Однако Гераци несколько отходил от общепринятых взглядов галенистов: душа в его понимании имела материальную основу. Гераци выступал против шаблона при назначении кровопусканий и подчеркивал необходимость учитывать состояние больного. Лихорадки он разделял на три группы: однодневная, длительная, или изнурительная, и плесневая; пытался обосновать представление о заразительности некоторых лихорадочных заболеваний, что было определенным шагом вперед в понимании их сущности. Описания клинической картины лихорадочных болезней у Гераци столь ясны и четки, что среди них легко распознать тифозные заболевания, различные виды малярии, туберкулеза легких и пр. Гераци знал о тимпаническом звуке при перкуссии живота, при обследовании больного выяснял обстоятельства возникновения болезни, ее симптомы, состояние тела больного, возраст, особенности климата, время года, когда возникла болезнь, местность, где жил больной, его привычки.
К обстоятельствам, благоприятствовавшим развитию медицинских знаний в 12—13 вв., следует отнести создание в г. Сисе (в Каликийской Армении) медицинской школы, а также проведение армянскими врачами анатомических исследований на трупах, что способствовало прогрессу хирургии. Прогрессивные ученые Армении понимали преимущество научного опыта над схоластическими и идеалистическими концепциями, господствовавшими в средневековой науке. Армянский ученый Саркаваг в 12 в. писал: «Без опыта воззрение не может быть убедительным, так как только опыт достоверен и не внушает сомнений». Вскрытие трупов, запрещенное в силу религиозных воззрений в странах Арабского халифата, послужило благоприятным фактором для развития в Армении хирургии. Армянским врачам были известны достижения современной им анатомии и физиологии.
В хирургической практике врачи применяли методы активной и рациональной помощи. В случае сабельного удара, если рана оказывалась глубокой, ее зашивали шелком. При неглубокой ране края ее стягивали и склеивали смолистыми лекарственными веществами, а также смесью из воска, дегтя и смолы, после чего накладывали повязку, которую снимали через 3 дня. При гнойных ранах и абсцессах проводили широкие разрезы ножом. При наличии свища (например, молочной железы) запрещали лечить рану тампонированием и рекомендовали вскрывать свищевые ходы. При открытых переломах бедра промывали рану теплой водой с мылом и обтирали ватой, затем под обезболиванием ее зашивали и накладывали повязку с лекарственными веществами. Конечности придавалось удобное положение. При задержке мочеиспускания рекомендовалась катетеризация свинцовым катетером. В одной рукописи приведено описание грыжи, на которую автор смотрел как на дефект внутренних покровов, куда внедряются кишки или другие органы. Причинами возникновения грыжи автор считал травму, физическое напряжение и падение с высоты. При описании содержимого грыжевого мешка отмечалось сращение между кишками, сальником и другими органами, осознавалась опасность ущемления грыжи.
В 12—15 вв. в Армении отмечался интерес к изучению акушерства и гинекологии. Армянскими врачами были пересмотрены существовавшие ранее показания к акушерским операциям при тяжелых осложнениях беременности. Так, вопреки требованиям церкви автор рукописи «О заболеваниях женщин, которые возникают от беременности» требовал искусственного прерывания беременности при тяжелых почечных заболеваниях, когда беременность угрожает женщине смертью. Армянским врачам 11—12 вв. были известны маточные трубы и связочный аппарат матки. При поперечном положении плода акушеры умели производить поворот плода на ножку.
Одним из выдающихся врачей своего времени являлся Амирдовлат Амаснаци. В молодости он был странствующим врачом. Из медицинских сочинений Амирдовлата видно, что он был хорошо знаком с работами греческих и римских врачей, а также с медицинскими сочинениями на арабском и армянском языках. В своих теоретических воззрениях Амирдовлат оставался на позициях гуморальной патологии. В «Лекарствоведении» (1481) он дал для собирателей лекарственных растений и продавцов ароматических веществ указания, в какое время года производить сбор растений, их листьев, цветов, корней и других частей, в каком помещении и в каких сосудах следует их хранить для предохранения от порчи и т.д. В этой книге описаны разнообразные средства для наружного и внутреннего употребления, очищения воздуха, предохранения продуктов от порчи. Особое внимание уделено сильнодействующим лекарственным растениям, для них указаны максимальные суточные дозы. К этому труду Амирдовлат приложил составленный им словарь лекарственных веществ на армянском, греческом, латинском, арабском и персидском языках. Ранее (в 1469 г.) Амирдовлат написал сочинение, посвященное всем разделам М., под заглавием «Польза медицины». Третий обширный его труд «Ненужное для неучей» представляет собой род энциклопедического словаря лекарственных веществ и лечебных приемов, в котором даны сведения о фармакологических средствах средневековья, по бальнеотерапии и т.п.
Экономический и культурный подъем Армении был прерван в середине 13 в. (1235—1243) монголо-татарским нашествием, но и в трудных условиях монголо-татарского господства продолжалась деятельность центров армянской науки и культуры. В этот период в Киликийском армянском государстве функционировал знаменитый Гладзорский университет. С середины 14 в. Армения стала ареной нескончаемой борьбы между покоренным населением и завоевателями. На протяжении 16 лет (с 1386 по 1402 г.) орды Тимура предавали страну огню и мечу. Население покидало родину и переселялось на Русь, в Западную Европу. С потерей государственной самостоятельности в конце 14 в. в Армении наступил длительный период упадка и застоя в области медицины.
Утрата армянским народом политической независимости и превращение Армении в арену ожесточенных войн между иностранными захватчиками — Ираном и Турцией — привели к разрушению некогда цветущих армянских городов с их культурными очагами.
Медицина в Грузии. В 5—4 тысячелетии до н.э. на территории современной Грузии была развитая земледельческая культура, имелись крупные поселения. К концу 3 — началу 2 тысячелетия до н.э. относятся археологические находки, свидетельствующие о сравнительно высоком уровне культурного развития: уникальные образцы оружия, керамических, ювелирных изделий и др. В начале 1 тысячелетия до н.э. начали возникать первые крупные племенные объединения (диахи, колхи). Консолидации грузинской народности во многом способствовало образование раннеклассовых государственных образований: Колхидского царства (6 в. до н.э.). Иберийского царства (4 в. до н.э.). К 3 в. до н.э. национальная традиция относит возникновение грузинской письменности.
Культура племен, населявших территорию современной Грузии, первоначально развивалась под влиянием цивилизаций Древнего Востока — шумерской и хеттской. В 6 в. до н.э. в Восточном Причерноморье возникли греческие колонии, обусловившие торговые и культурные связи грузинских государств с античной Грецией, которые, как и принятие христианства в первой половине 4 в. н.э., оказали большое влияние на развитие грузинской культуры. Вторжение арабов в Грузию в середине 8 в. и установившееся здесь арабское владычество отрицательно сказались на развитии грузинской культуры. После объединения Грузии в единую феодальную монархию в 10 в. начался период культурного подъема, длившийся до 13 в. Для этого периода характерен расцвет философии, естественных наук, искусств. В Тбилиси был выстроен специальный дом, где собирались поэты, художники, архитекторы, врачи, приезжавшие из разных стран.
С ростом торговли и ремесленного производства, с развитием хозяйственной жизни страны и усложнением социальных взаимоотношений создались предпосылки для подъема грузинской культуры. Церковь в Грузии в этот период утратила господствующее положение. Большого развития достигла светская литература. На грузинский язык переводились лучшие памятники литературы Древнего Востока и античности. Значительное развитие получили прикладные знания (архитектура, ирригация, сельское хозяйство, виноградарство). В конце 12 в. Шота Руставели создал свою гениальную поэму «Витязь в тигровой шкуре».
С древних времен в Грузии собирали и разводили лекарственные растения. В 1 в. н.э. Диоскорид, описывая лекарственные растения и места их распространения, называл Колхиду. Вероятно, греки вывозили эти растения из Колхиды. Можно предполагать, что с незапамятных времен предки грузин пользовались для лечения местными минеральными водами. В народной М. грузинских племен сохранились как рациональные способы лечения (растениями, минеральными водами, с помощью хирургического вмешательства), так и магические приемы (ритуальные действия, заговоры) и остатки храмовой М. В феодальной Грузии М. была тесно связана с религией. Сведения о М. содержатся в древнейших памятниках грузинской литературы 5—7 вв. («Мученичество Шушаники» Якова Цуртавели, «Житие Петре Картвели» — врача, основавшего в Палестине монастырь и больницу),
10—13 вв. — период бурного развития М. в Грузии. Основными очагами научной деятельности были монастырские школы, а также грузинские монастыри и школы, созданные за пределами Грузии — в Иерусалиме, на Синае и в Афоне (10 в.), в Болгарии. В 1114 г. в Грузии была основана академия в Икалте. Большую роль в истории грузинской науки сыграла Гелатская академия, где творили выдающиеся грузинские философы, естествоиспытатели и врачи. В грузинских монастырях ученые монахи переводили на грузинский язык с греческого и арабского книга, среди которых были близкие к М. произведения Аристотеля. В грузинской летописи описаны больницы, существовавшие при монастырях. Врачи, работавшие полгода непосредственно в больнице, по истечении этого срока переходили в селения, где заменяли работавших там врачей.
В дошедших до нас грузинских медицинских рукописях эпохи культурного возрождения Грузии содержатся сведения по гигиене; о строении и функциях организма и отдельных органов, приведены классификации болезней, описания их течения и способов лечения. Широкое распространение получили так называемые карабадины — книги по естествознанию, содержащие и медицинские сведения. В карабадинах были собраны данные о лекарственных средствах, описаны способы приготовления лекарств, их дозировка и действие на организм, излагались сведения по анатомии, физиологии, патологии, гигиене и диететике, о природе различных болезней (внутренних, хирургических, акушерско-гинекологических, глазных, ушных и нервных) и их терапии.
Грузинский философ 11—12 вв. Иоанэ Петрици перевел с греческого языка на грузинский книгу Немесия Эмесского «О природе человека». В своем философском произведении «Рассмотрение платоновской философии и Прокла Диодоха» он обнаружил звание медико-философских идей и основ теоретической и практической медицины. Иоанэ Петрици подчеркивал необходимость изучения врачом основ философии, без знания которой он считал невозможным научиться искусству врачевания. По его мнению, выяснение этиологии, постановку диагноза и последующее правильное лечение болезни необходимо проводить на основе философии, «так как врачевание является философией в отношении природы и природных сочетаний». Иоанэ Петрици считал человека существом сложной организации; он был знаком со строением, функциями ряда внутренних органов человека; считал, что функции отдельных органов взаимосвязаны. Из книги Петрици мы узнаем и о роли повивальных бабок в Грузии в 11 в.
Грузинский врач 11 в. Кананели написал дошедший до нашего времени «Несравненный карабадин». Сочинение разделено на три части: в первой изложены общие врачебные принципы, сведения о строении и функциях отдельных органов, женских болезнях; имеется глава о малярии; во второй — частная патология и терапия; в третьей — кожные заболевания, вывихи, переломы, ожоги, отморожения, приведены сведения по гигиене и диететике. Кананели был знаком с греческой и восточной М., почти не цитировал других авторов, а подробно анализировал собственные практические наблюдения. Его произведения отличаются тонкой наблюдательностью. Кананели писал о недопустимости принятия пищи и воды из посуды, которой пользовался больной заразной болезнью, рекомендовал не давать больному никакого лекарства до выяснения характера заболевания, т.к. преждевременное назначение лекарства может изменить картину заболевания и усложнить постановку диагноза. В главе о переломах костей Кананели указывал, что для сращения необходимо тесное соприкосновение отломков, которое предварительно должно быть обеспечено выправлением их с последующим наложением шины. Описывая расширение вен нижних конечностей, он отмечал, что этим заболеванием страдают прислуга, а также те, кто ходит пешком, и рекомендовал: «Все лечение тут — хирург, который рассечет и удалит кровеносный сосуд и рану вылечит посредством хорошей мази».
В 13 в. грузинский врач Ходжа Копили написал «Книгу медицинскую», где привел большое количество лекарственных средств, применяемых до настоящего времени. Построение книги Копили близки к сочинению Кананели. В первой части приведены общие понятия о медицине, гигиене и профилактике, анатомо-физиологические данные, сведения о диагностике и общей патологии (из методов исследования Копили применял выстукивание, выслушивание и ощупывание пульса). Во второй части подробно изложено течение различных болезней, приведены многочисленные методы лечения. В третьей части описаны лекарства, в основном растительного происхождения, и способы их приготовления.
Копили предъявлял к врачу высокие требования. Врач должен хорошо и всесторонне знать М., быть начитанным, иметь опыт в лечении, уметь хранить тайну, быть любезным. Копили подчеркивал необходимость изучения теории М., рекомендовал не доверять знахарям, которые, не имея медицинского образования, прикрывают свое невежество пустыми рассуждениями и калечат людей. При описании заболеваний приведены и хирургические методы лечения, в т.ч. трахеотомия, операция при глаукоме, при геморрое и т.п. Книга Копили служила учебным пособием в медицинской школе при подготовке врачей.
Поэма великого грузинского поэта Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» содержит ряд историко-медицинских сведений. Руставели обнаружил серьезные познания в области М. Поэма свидетельствует, что врачи в то время придавали существенное значение анамнезу. Руставели указывал, что при нарушении в организме равновесия четырех жидкостей (крови, слизи, черной и желтой желчи) применялось кровопускание из вены руки. Из поэмы Руставели известно, что армию в походах сопровождали врачи, умевшие лечить раны и извлекать инородные тела, по-видимому хирурги. Некоторые воины также могли перевязывать раны и имели запас лекарств и перевязочных средств.
Древние медицинские воззрения грузинского народа связаны с шумерской медициной. Это подтверждается памятниками материальной культуры и фольклором грузинского народа, где видны остатки языческих культов. Некоторые термины грузинской народной медицины совпадают с терминологией шумеров.
Древнейший грузинский эпос «Амираниани» (2 тысячелетне до н.э.) содержит представление о четырех первоэлементах вселенной; наряду с религиозно-магическими ритуалами в нем описаны рациональные медицинские манипуляции и лечебные приемы с использованием минеральных вод и целебных растений, упоминается кесарево сечение, операции на глазах и др. В древнегреческих источниках («Аргонавтике» и др.) говорится о саде лекарственных растений в долине р. Фазис (ныне Риони), описываются растения, выращиваемые в нем, и способы их лечебного применения. С содержанием «Аргонавтики» и других греческих эпических источников совпадают сообщения Диодора Сицилийского. По Диодору, жена колхидского царя Геката «девушкой приобрела глубокие познания в изготовлении ядов», в частности сильного яда аконита из цветка лютика, и отравляла им иноземцев. Дочь Гекаты Медея лечила ранения, знала бальзамирование, изготовляла и применяла снотворные и косметические средства. С именем Медеи связывают идею омоложения путем кровезамещения. Так, Овидий в «Метаморфозах» (1 в. до н.э.) описывает легенду о превращении Медеей «дряхлых овец в бодрых ягнят» вливанием «свежей» крови. С помощью замещения крови и применяя лекарственные средства Медея омолодила Язона: волосы его стали из седых черными, исчезла дряблость кожи, разгладились морщины.
Греческие и римские писатели (Плиний, Гораций, Диоскорид и др.) часто упоминали о Колхиде и Иберии как родине лекарственных растений, известных во многих странах. Учитывая соседство Грузии с Боспорским царством, М.С. Шенгелия (1975) допускает возможность непосредственной связи токсикологических опытов Митридата IV Евпатора с грузинским лекарствоведением и токсикологией. В 4—2 вв. до н.э. началось проникновение в Грузию эллинистических культурных и медицинских традиций.
Медицина в феодальной Грузии была тесно связана с религией. Сведения о медицине содержатся в памятниках грузинской религиозной литературы 5 в. («Мученичество Шушаники» Якова Цуртавели, «Житие Петре Картвели»). Врач Петре Картвели (Петр Ивер, 412—488) жил и работал в Палестине, где основал монастырь и устроил больницу.
Монгольское владычество (13—14 вв.) и насилье в дальнейшем персов и турок значительно задержали, но не могли полностью остановить развитие науки в Грузии. Опустошительные нашествия персов и турок в 15—17 вв., распад централизованной монархии и внутренние феодальные раздоры, междоусобицы, сепаратистские устремления мелких грузинских царств и княжеств привели к утрате государственного единства Грузии и упадку ее культуры.
Медицина народов Средней Азии. Средняя Азия — один из древнейших очагов цивилизации. Уже в 6—5 тысячелетии до н.э. здесь возникли первые поселения городского типа. Во 2 тысячелетии до н.э. на территорию Средней Азии началось проникновение арийских племен иранской группы, которые, смешавшись с коренным населением, дали начало сложившимся к 1 тысячелетию до н.э. древним среднеазиатским народностям — хорезмийцам, массагетам, согдийцам, бактрийцам — предкам современных таджиков, узбеков и туркменов. В конце 2 — начале 1 тысячелетия до н.э. на территории Средней Азии возникли первые раннеклассовые государства — Бактрия, Согд и Хорезм, были построены крупные города — Бактура, Бухара, Кирешат, Мараканда (Самарканд). Находясь на средоточии караванных путей между Ивдией, Китаем и Ближним Востоком, среднеазиатские города быстро росли, становясь центрами торговли и ремесла. В середине 6 в. до н.э. большая часть Средней Азии была завоевана персидским царем Киром II, а в 329— 327 гг. до н.э. — Александром Македонским. После распада империи Александра Македонского значительная часть Средней Азии вошла в состав эллинистического государства Селивкидов. В середине 3 в. до н.э. в западной части Средней Азии образовалось Парфянское царство, нанимавшее также большую часть Ирана, а на территории Бактрии и Согда — Греко-Бактрийское царство, сыгравшее важную роль в распространении эллинистической культуры. Бухара и Хорезм не входили в состав Греко-Бактрийского царства и вели с ним оживленную торговлю, создавшую условия и для обмена духовными ценностями. Поэтому есть все основания считать, что не позднее 3—2 вв. до н.э. народы Средней Азии впервые познакомились с трудами древнегреческих философов и врачей.
В 1 тысячелетии н.э. (до 6—7 вв.) в Средней Азии значительно активизировалась экономика, развивалось шелководство и хлопководство, добывались золото, медь, железо, свинец, серебро и другие металлы. Росли города — центры торговли, ремесла и культуры, игравшие важную роль в международной торговле.
В 1 тысячелетии до н.э. сложилась среднеазиатская культура, имевшая общие корни и во многом близкой с культурой народов Древнего Ирана. Вместе с тем древние иранцы, особенно племена, населявшие западные и северо-западные районы Ирана, в большей степени испытывали шумерское и вавилоно-ассирийское влияние (через Эламское государство, кутиев, касситов и др., а позднее — через Мидию), чем бактрийцы, согдийцы и хорезмийцы. более тяготевшие к культурным традициям Древней Индии. Однако этническая, языковая (до 4—3 вв. до н.э.), а с 6 в. до н.э. и политическая общность народов Средней Азии и Древнего Ирана обусловили известное единство религиозных и культурных традиций. С 3—2 вв. до н.э. в Средней Азии и северо-восточных районах Ирана начинают распространяться традиции эллинистической культуры, а с образованием Кушанского царства усиливается влияние культуры Индии. В первой половине 1 тысячелетия н.э. сложилась самобытная культура народов Средней Азии. представляющая собой своеобразный синтез культурных традиций древней ирано-среднеазиатской, эллинистической и индийской культур. На языках народов Средней Азии — бактрийском, согдийском, хорезмийском — были созданы письменные памятники религиозного, политического и научного характера, в которых нашли отражение достижения философской, естественнонаучной мысли и медицины ученых Средней Азии, Индии и эллинистического мира. В среднеазиатских городах имелись школы и крупные библиотеки. Большинство памятников письменности и материальной культуры этого периода погибло во время арабского нашествия в 7—8 вв.
Не позднее 8—7 вв. до н.э. в Средней Азии началось распространение зороастризма (по преданию, Зороастр, правильнее Заратуштра, начал проповедовать свое учение в Бактрии). Причем в Средней Азии зороастризм первоначально нашел более благоприятную почву, чем в Иране, где до 3 в. до н.э. основу религиозных представлений составляли местные культы. Начиная с 1 в. до н.э. в Среднюю Азию начал проникать из Индии буддизм, а из Ирана — манихейство. Однако вплоть до арабского нашествия и насильственного насаждения ислама основной религией народов Средней Азии оставался зороастризм.
Наиболее ранним письменным памятником, характеризующим религиозно-философские, естественнонаучные и медицинские представления народов Средней Азии, является Канон Авесты. Авторство наиболее древнего раздела приписывается Зороастру; есть основание предполагать, что наиболее древняя часть Авесты составлялась на территории Бактрии. В дальнейшем текст Авесты дополнялся, и в создании ее последующих книг, в частности Вевдидада — свода религиозных, юридических и медико-гигиенических предписаний, принимали участие все народы, исповедовавшие зороастризм.
Источниками изучения культуры и Малой Средней Азии в период с первого тысячелетия до н.э. до 7—8 вв. н.э. служат данные археологии, Канон Авесты, сборник притч и назидательных рассказов «Камила и Димна», медицинская книга «Тубуста», составленная на согдийском языке не позднее 3 в. н.э. Ценные сведения о лечебных приемах и гигиенических традициях медицины Средней Азии доисламского периода имеются в книге «Кабуснамэ» (11 в.). Богатейшие материалы по истории культуры народов Средней Азии содержатся в историческом трактате въедающегося среднеазиатского ученого Бируни (973—1048; по другим источникам, после 1050 г.) «Хронология древних народов».
Основой общебиологических представлений народов Средней Азии было натурфилософское учение о четырех стихиях — четырех влагах организма, от взаимодействия и соотношения которых зависит состояние организма и возникновение болезней. Важное место занимало и зороастрийское учение о видимом и невидимом свете, дающем организму тепло, определяющем уравновешенность и состояние влаг, а также характерологические черты отдельного человека (человек, поглощающий достаточное количество света, добр, уравновешен и здоров). В соответствии с зороастрийскими представлениями основными органами считались желудок — центр образования и распределения тепла и печень — местопребывание страстей. В Авесте содержатся некоторые, хотя и весьма скудные, анатомо-физиологические данные, в частности представление о трех видах сосудов, за один из которых («сосуды без крови»), по-видимому, принимались нервы. В дальнейшем анатомо-физиологические представления существенно расширились и углубились. Текст «Тубусты» свидетельствует не только о знакомстве, но и об известной творческой переработке сведений, имеющихся в греческих, александрийских и индийских источниках, причем это касается как рациональных представлений, так и религиозно-мистического истолкования процессов жизнедеятельности. Гуморальная теория изложена ближе к эллинистическим натурфилософским традициям; говорится о местопребывании соков (кровь — в артериях и венах, флегма — в мозге, желтая желчь — в печени, черная желчь — в селезенке), а также указывается на наличие пятого компонента, управляющего жизнедеятельностью и здоровьем человека, в котором угадывается древнеиндийский эфир или галеновская пневма. Учение о свете увязывается с гиппократовскими представлениями о темпераментах. Сведения о строении человеческого тела по объему близки к анатомии Галена; функции сердца, головного и спинного мозга, двигательные и чувствительные нервы описаны в духе галеновской физиологии.
Причины болезни как в Авесте, так и в «Тубусте» излагаются с позиций зороастризма: в зависимости от степени греховности человека, бог тьмы Ахриман или бог добра и света Ахурамазда, либо непосредственно, либо с помощью ядовитых животных, насекомых, червей, теплого или холодного воздуха вызывают изменение соотношения влаг организма, которое нарушает равновесие между органами. Причем человек сам помогает этому нарушению праздностью или физическим и психическим переутомлением, перееданием или недоеданием, половыми излишествами или приемом недоброкачественной пищи. Плохо влияют на здоровье также злоба, гнев, зависть, леность и нечистоплотность; доброта, спокойствие, трудолюбие, разумная умеренность, чистота тела и жилища, стремление к самосовершенствованию угодны Ахурамазде и служат гарантией его защиты от козней Ахримана. В «Тубусте» содержатся и элементы астральных представлений — зависимость возникновения и особенно успеха лечения болезней от характера расположения небесных светил.
Подготовка врачей осуществлялась длительно, главным образом при зароастрийских храмах; значительное влияние имели врачеватели, не получившие специальной медицинской подготовки, использовавшие в лечебной практике наряду со средствами народной М. заговоры и другие мистические приемы. Секреты подобного врачевания передавались, по-видимому, внутри семьи из поколения в поколение. О наличии светских медицинских школ в среднеазиатских городах достаточно достоверных сведений не имеется. Однако есть основания полагать, что светские формы подготовки лиц медицинской профессии в первой половине 1 тысячелетия н.э. в Средней Азии и Северо-Восточном Иране существовали. В среднеазиатских городах была свободная врачебная практика, имелись светские врачи, среди которых были бежавшие из Византии врачи-несториане, индийские врачи-буддисты. Поскольку, судя по имеющимся данным, жрецы-зороастрийцы не проявляла выраженного стремления к сохранению монополии в области образования, ничто не мешало светским врачам иметь учеников.
Как и в Древнем Иране, в Средней Азии отмечены элементы специализации медицинской деятельности: имелись хирурги, специальные врачи, занимавшиеся глазными болезнями, болезнями зубов, оказывавшие помощь при родах, душевных болезнях. Значительного развития достигла хирургия. Имелся богатый набор хирургических инструментов; при операциях для обезболивания применяли опий, гашиш, вино; в Авесте и «Тубусте» описаны признаки раневого шока и меры борьбы с ним.
При диагностике использовались главным образом рациональные приемы: осмотр больного, исследование мочи и пульса, В «Тубусте» имеются упоминания об одышке, отеках, напряжении мышц живота, неприятном запахе изо рта, потливости, изменении окраски кожных покровов как проявлениях различных болезней. Имеются многочисленные указания на связь лечебных приемов с проявлениями и причиной заболевания, а также общим состоянием больного. Старого и немощного не рекомендуется лечить теми же средствами, какими лечат молодого, еще полного сил пациента. Для лечения болезней применялись разнообразные средства растительного, животного и минерального происхождения, в т.ч. лекарственные растения, произрастающие в Индии, Закавказье, странах Ближнего Востока. В городах и при храмах имелись аптечные сады. У врачей были собственные лекарственные кладовые, откуда лекарственные средства выдавались пациентам в соответствии с предписаниями врача. При храмах и в городах не позднее 5—6 вв. имелись помещения для стационарного лечения больных и призрения инвалидов. Большое место уделялось мерам гигиенического характера: чистоте тела, жилища и одежды, надзору за домашними животными, борьбе с насекомыми и грызунами, режиму питания и половой жизни. Особое внимание уделялось гигиене беременной женщины и кормящей матери.
К середине 8 в. Средняя Азия была завоевана арабами, в результате прежние религии — зороастризм, буддизм, несторианство, манихейство и т.д. — были заменены исламом, оказались уничтоженными многие памятники культуры, города. Территория Средней Азии вошла в состав халифата.
Как государственное образование Арабский халифат оказался непрочным. Управляемые наместниками из местной знати, отдельные территории халифата начинали приобретать все большую самостоятельность. В конце 9 в. наместник Мавераннахра (междуречье Сырдарьи и Амударьи, включая Бухару, Самарканд и др.) и Хорасана Исмаил Саманид объединил под своей властью значительную территорию Средней Азии и Ирана и создал крупное государство, объединенное единым языком дари (фарси). Саманиды покровительствовали развитию литературы и науки.
В период своего расцвета в первой половине 10 в. государство Саманидов включало Мавераннахр, Хорасан, Северный и Восточный Иран. В вассальной зависимости от него были Хорезм, Систан, Горган (Джурджан), Решт, Газни, Табаристан (Мазендеран). В экономическом отношении оно занимало одно из первых мест на Востоке. Бухара — столица Саманидского государства в 10 в. была одним из богатейших городов Востока, крупным торгово-ремесленным центром. Самарканд славился производством высококачественной бумаги и стекла. Оживленную торговлю вели Мера, Гургандж (Ургенч), Герат, Бинкент. Караванная торговля связывала Бухару со многими странами. Знаменитая «Шелковая дорога» шла через Бухару от Багдада до Пекина.
В Мерве, Бухаре, Ургенче, Самарканде, Ходженте и других городах возникли астрономические обсерватории, библиотеки (крупнейшая из них была в Бухаре; погибла во время пожара при взятии Бухары войсками караханидов в 998 г.). Значительное развитие получило просвещение. Появились начальные (мактаб) и средние (медресе) школы при мечетях. Центрами высшего образования стали Дома мудрости, или Дома знаний (дарил-финул), крупнейшие из которых были в Бухаре, Мерве, Самарканде. Подготовка врачей осуществлялась в школах при больницах. Важное место в подготовке врачей в Средней Азии имело частное обучение: крупные врачи принимали группу учеников, составляли для них своеобразные учебные пособия, вместе с ними принимали и посещали больных, изготовляли лекарства и т.д. Наряду с этим некоторые среднеазиатские врачи получали образование в других регионах Халифата (в Гундишапуре, Багдаде, Басре, Рее) и, наоборот, громкая слава отдельных среднеазиатских врачей привлекала к ним учеников из разных стран Востока. Большое значение для развития медицинского образования имел обмен (хотя и ограниченный) медицинской литературой.
В 10—12 вв. в крупных среднеазиатских городах жило и работало значительное число образованных людей — философов, законоведов, врачей, естествоиспытателей, поэтов, имена которых еще при жизни были известны далеко за пределами их родины. При дворах некоторых среднеазиатских правителей создавались так называемые общества просвещенных (меджлиси улама), представляющие собой объединения признанных ученых, периодически собиравшихся для обсуждения научных работ друг друга, а также текущих политических, хозяйственных, военных и других проблем, в числе которых было немало вопросов медико-гигиенического характера (проекты санитарного благоустройства и водоснабжения, меры борьбы с возникавшей эпидемией, труды по медицине и т.п.). Широкой известностью на Востоке пользовалась хорезмийская меджлиси улама (так называемая академия Мамуна), членами которой в начале 11 в. были крупнейшие ученые средневекового Востока Бируни, Ибн Сина, философ, математик и врач Абу Сахл Масихи (умер в 1017 г.), врач Абдул Хайр Ибн ал Хаммар (родился в 942 г.), математик Абу-Наср Аррак, историк Ибн Мис-кавейх и др. Крупные, хотя и менее известные, чем хорезмийская, меджлиси улама имелись в Самарканде, Мевре, Ходженте.
Хотя после завоевания арабами Средней Азии господствующей идеологией стал ислам, передовые среднеазиатские мыслители создавали своеобразные философские системы на основе доисламских учений, древнегреческих и древнеиндийских интеллектуальных традиций. Виднейшим представителем так называемого восточного перипатетизма (или восточного аристотелизма) был Фараби, развивавший материалистические и диалектические начала учения Аристотеля и стремившийся сохранить связь философии с рациональными естественнонаучными представлениями. В его трактате «Теоретическая и практическая медицина» наряду с неоплатоническими представлениями о сущности процессов жизнедеятельности и причинах болезни содержатся рациональные идеи о взаимосвязи организма с окружающей средой и роли факторов окружающей среды в патологии. Учение Ибн Сины и его последователей содержало идеи вечности материального мира, независимости частных явлений жизни, в т.ч. состояния здоровья и болезни, от божественного провидения. Получили распространение передовые идеи Бируни, противопоставлявшего религиозной картине мира естественнонаучное понимание природы и видевшего задачу науки в ее опытном изучении. В 11 в. значительное влияние приобрел исмаилизм, философская доктрина которого сложилась на основе неоплатонизма и аристотелизма. В учении о гармоническом строении Вселенной исмаилиты уподобляли ее структуру (макрокосм) строению человеческого тела (микрокосму). В 10—13 вв. большое распространение получил суфизм, философская догматика которого во многом противостояла правоверному исламу
В 9—15 вв. значительное развитие получили работы в области точных и естественных наук. Хорезми (9 в.), Марзави (9 в.), Усман Балхи (9 в.), Фергани (9 в.). Абу-ль-Вефа (10 в.), Бируни (10—11 вв.), Омар Хайям (11—12 вв.) и др. внесли значительный вклад в развитие математики и астрономии. Работы среднеазиатских ученых, особенно Бируни и Ибн Сины, сыграли важную роль в создании рациональной фармации и фармакогнозии. В «Минералогии» Бируни наряду с обширными сведениями о свойствах, местах и способах добычи различных минералов и металлов сообщаются данные об их лечебном применении. Бируни приводит обширные и интересные сведения о распространенном на Востоке лекарственном средстве «мумие асиль», основательное изучение которого началось лишь в 60—70-х гг. 20 в., обосновывает несостоятельность широко распространенного суеверного представления о целебных свойствах драгоценных камней. Его «Фармакогнозия» представляет собой обширный многоязычный аннотированный словарь лекарственных средств, в котором упомянуты арабские, греческие, сирийские, персидские, индийские и другие названия различных лекарственных средств и дано подробное описание их внешнего вида, признаков распознавания наилучших образцов, названы места произрастания, возможные заменители отдельных лекарственных средств и т.п. Особое внимание Бируни уделил местным названиям лекарственных средств, бытовавшим среди жителей различных областей Средней Азии, что позволяет составить достаточно полное представление об арсенале лекарственных средств, которые использовала среднеазиатская народная М. По числу рассмотренных лекарственных средств сочинение Бируни долгое время оставалось непревзойденным. Кроме сведений чисто практического характера, Бируни в своем труде освещает ряд теоретических вопросов. В частности, он рассматривает предмет, задачи и значение фармакогнозии для М. Фармакогностический труд Бируни оставил значительный след в истории М. Востока. Менее чем через два столетия он был переведен на персидский язык выходцем из Ферганы Абу Бакром ал-Касани (13 в.). Многие восточные врачи использовали его в качестве авторитетного источника для своих сочинений, например, «Фармакогнозия» Бируни многократно цитировалась в фармакогностическом словаре «Алфаз ал-адвия», известных на Востоке фармакопеях и лечебниках 17—18 вв. «Мухити Азам», «Махзанул адвия» и др. Огромную роль для развития рациональной фармации сыграла научная и практическая деятельность Ибн Сины. В «Каноне врачебной науки», а также в ряде специальных работ по лекарствоведению («Книга о лекарствах при сердечных болезнях», «О свойствах цикория», «О свойствах ускуса-лида» и др.) Ибн Сина не только объединил разрозненный опыт прошлого и дополнил его результатами собственных наблюдений, но и сформулировал ряд принципиальных положений рациональной фармации. Если Ибн Аббас (930—994) указывал на благоприятные условия проверки действия лекарственных средств в больнице, то Ибн Сина предлагает систему их испытания, включающую наблюдение за их действием у постели больного, постановку опытов на животных и даже некоторое подобие клинического испытания. При этом Ибн Сина считает наиболее надежным экспериментальный путь проверки действия лекарственных средств и предлагает «условия», обеспечивающие «чистоту эксперимента». В «Каноне врачебной науки» содержатся указания на необходимость выявления побочного действия лекарств, на наличие взаимного усиления их и взаимного ослабления действия лекарственных средств при их совместном назначении.
Ибн Сина связывал развитие рациональной фармации с применением лекарственных средств, полученных химическим путем. Эта идея, которую разделяли некоторые арабские и среднеазиатские ученые и врачи (Джабир ибн Хайян, около 721 — около 815; Рази, Бируни и др.), была в дальнейшем развита алхимиками средневековой Европы, а также врачами эпохи Возрождения и Нового времени. Ибн Сина описал много новых лекарственных средств растительного, животного и минерального происхождения. В частности, с его именем связывают первое применение ртути, которая в 10 в. добывалась в окрестностях Бухары, для лечения сифилиса. Им же как побочное действие ртути описаны проявления ртутного стоматита. Из перечня лекарственных средств, приложенного к Книге второй «Канона врачебной науки», около 150 значились в первых восьми изданиях русской фармакопеи.
Являясь порождением древней высокоразвитой культуры, среднеазиатская М. в значительной степени определила уровень и своеобразие М. арабского Востока. Обобщающие энциклопедические труды среднеазиатских врачей во многом способствовали сохранению и развитию достижений М. древности (античной, эллинистической, индийской, иранской, среднеазиатской), осмыслению и синтезу их богатого практического опыта и теоретических концепций. Подобно обобщающим трудам арабских врачей, некоторые среднеазиатские медицинские энциклопедические труды были переведены на европейские языки и сыграли важную роль в развитии М. в Европе. Это прежде всего относится к «Канону врачебной науки» Ибн Сины, несомненно, являвшемуся самой популярной из медицинских книг, созданных на Востоке. На протяжении нескольких веков «Канон» служил основным учебным пособием в европейских университетах, оказав огромное влияние на уровень специальных знаний врачей средневековой Европы. Передовые среднеазиатские ученые — философы, врачи, естествоиспытатели явились провозвестниками ряда новых идей, получивших признание и развитие лишь несколько веков спустя. К ним относятся попытки внедрения экспериментального метода в патологию и лекарствоведение, утверждение естественнонаучной сущности М. как области научной и практической деятельности, идеи связи М. с химией, взаимосвязи организма с окружающей средой и роли этой среды в патологии, неразрывной связи психического и телесного, предположение Ибн Сины о невидимых существах, могущих вызывать лихорадочные заболевания и распространяться через воздух, воду и почву, и др. Передовые врачи и ученые Средней Азии активно выступали против царивших в современной им М. суеверий, отвергали астральные представления, магическую цифрологию, целебные свойства драгоценных камней, заговоров и амулетов, противопоставляя им рациональные средства диагностики, терапии и гигиены. Однако все их усилия остались по преимуществу «гласом вопиющего в пустыне». Большинство представителей медицинской профессии охотно применяли, а иногда и предпочитали магические и мистические приемы методам рациональной диагностики и терапии, по большей части предоставляя судьбу своих пациентов воле аллаха. Что же касается новых идей, то они нашли мало приверженцев. Разумеется, и те из среднеазиатских врачей и ученых, кто составил гордость М. Средней Азии — Бируни, Масихи, Ибн Хаммар, Ибн Сина, ал-Джурджани (около 1080—1141), Фахраддин Рази, Умар Чагмини и др. — не смогли полностью преодолеть сковывающего влияния феодального мировоззрения. Труды древних, за исключением некоторых частностей, они почитали высшим авторитетом. Ни один из них не усомнился в справедливости натурфилософского учения о четырех соках. Все придерживались анатомо-физиологических представлений Галена. Ни один из них не занимался анатомией, без развития которой было немыслимо построение рациональной физиологии и патологии. Причины, не позволявшие врачам мусульманского Востока изучать анатомию человека, хорошо известны, а гуморолистические концепции, содержащие элементы диалектики и материалистическое, хотя и эклектическое, объяснение жизнедеятельности и механизмов развития патологических процессов, неизмеримо прогрессивнее «медицины пророка». Эпоха не позволила им «перешагнуть через себя». И, если для истории М. наиболее выдающимися достижениями крупнейших врачей Средней Азии являются прежде всего их неоцененные новые идеи, значительно опережавшие свое время, то для современников и ближайших потомков наиболее существенными и значимыми были их достижения в области практической М. — диагностики, клиники, лечения, гигиены. В разработку этих проблем среднеазиатскими врачами внесен также весьма существенный вклад, для оценки которого наибольший интерес представляют труды и деятельность Ибн Сины и ал-Джурджани.
Творчество Ибн Сины занимает особое место в истории культуры. Крупнейший врач и мыслитель своего времени, отбыл признан уже современниками, и присвоенный ему еще при жизни почетный титул «шейх-арраис» (наставник ученых) сопровождал его имя в течение многих веков. Философские и естественнонаучные сочинения Ибн Сины пользовались широкой известностью в странах Востока и Западной Европы, несмотря на то, что основное его философское произведение «Книга исцеления» было объявлено еретическим и сожжено в Багдаде в 1160 г. Обессмертивший его имя «Канон врачебной науки» многократно переводился на многие европейские языки, около 30 раз издавался на латинском языке и более 500 лет служил обязательным руководством по М. для европейских университетов и медицинских школ арабского Востока. Ибн Сину по праву считают одним из основоположников химии, им предложена классификация минеральных веществ. Огромные заслуги Ибн Сины в развитии химии, в частности органической, отмечает в своей «Истории химии» (1883) известный французский химик П. Бертло (1827—1907). На большую роль трудов Ибн Сины в развитии ботаники указывают немецкий ученый Мейер (1856) и ряд советских исследователей.
Из 274 трудов Ибн Сины медицине посвящено только 20. Тем не менее принято считать, что из всех областей знаний, которыми занимался Ибн Сина, наибольший вклад им внесен в М. Прежде всего «Канон врачебной науки» принес ему всемирную славу и бессмертие. «Канон врачебной науки» разделен на пять книг. Первая книга содержит определение понятия «медицина», сведения по анатомии и общие сведения о болезнях, их причинах и проявлениях, о сохранении здоровья и способах лечения вообще. Во второй книге излагается учение о простых лекарствах и о способах их действия. В третью книгу включены частная патология и терапия, описание отдельных болезней и способов их лечения. Четвертая книга посвящена хирургии и общему учению о лихорадке. В пятой книге описаны сложные лекарственные вещества, яды и противоядия. Большое место в «Каноне врачебной науки» занимают вопросы гигиены: правила охраны здоровья, гигиенические предписания, диететика. Физические упражнения он называл «самым главным условием» сохранения здоровья, на следующее место он ставил режим питания и режим сна. Особые главы «Канона врачебной науки» Ибн Сина посвятил воспитанию и уходу за ребенком. В них содержится много тонких наблюдений и разумных советов. Другой сильной стороной «Канона врачебной науки» являются точные описания клинической картины болезней, тонкости диагностики. Первые описания ряда клинических явлений, их объяснения говорят о необычайной наблюдательности Ибн Сины, его таланте и опыте. В диагностике Ибн Сина пользовался ощупыванием, наблюдением над пульсом, определением влажности или сухости кожи, осмотром мочи и испражнений.
Ибн Сина много занимался проблемами психологии, и психические расстройства интересовали его не только с чисто врачебных позиций, но и как объект психологического исследования. По-видимому, в этом кроется причина того, что при описании психических расстройств он подробно излагает свои взгляды на природу психических процессов и причины их нарушения. В представлении о сущности психических процессов особенно наглядно проявляются материалистические стороны философии Ибн Сины: ни у кого раньше не встречается столь четкого представления о связи отдельных психических процессов с функцией определенных участков головного мозга. Достаточно вспомнить, например, указание Ибн Сины о том, что ушибы, разрушающие отдельные части мозга, расстраивают чувствительность и вызывают выпадение некоторых функций. Полностью отвергая демонологические взгляды на сущность психических болезней, Ибн Сина считал непосредственной причиной психических расстройств либо влияние условий окружающей среды, либо телесные расстройства. При этом выяснение взаимосвязей и взаимовлияния психического и соматического, по-видимому, представляло для Ибн Сины особый интерес: в «Каноне» содержатся указания на возможность возникновения психоза при острых лихорадочных заболеваниях, на связь расстройств желудочно-кишечного тракта с психическими переживаниями («сильным горем», гневом, огорчением и т.п.).
Важной вехой в развитии среднеазиатской М. была деятельность выдающегося хорезмийского ученого ал-Джурджани, автора капитального труда «Сокровища Хорезмшаха». Как и его предшественники, ал-Джурджани делит М. на научную и практическую. «Научная медицина изучает состояние организма, причины здоровья и болезни, она изучает разновидности причин, обусловливающих эти состояния. Практически медицина изучает показания и пути применения веществ, устраняющих болезнь». В соответствии с такой классификацией первая книга «Сокровища Хорезмшаха» посвящена изложению общих представлений о М. и пользе ее изучения. Вторая книга описывает состояние организма здорового и больного человека, разновидности заболеваний и их признаки (симптомы), методы обследования больного, исследование пульса, различные выделения (пот, кал, мочу и др.). В третьей книге анализируется воздействие на организм различных веществ, употребляемых в пищу, а также бодрствования и сна, движения и покоя, одежды, воды, воздуха, места проживания, освежающих средств, масел, слабительных клизм, свечей и кровопускания. Специальный раздел посвящается душевному состоянию здоровых и больных людей. Книга кончается советами по уходу за детьми и их воспитанию, рекомендациями для стариков и путешественников. Четвертая книга посвящена диагностике и прогностике, она содержит сведения о скрытом периоде, начале развития, кризисе, продолжительности и вероятных исходах заболеваний. В пятой книге описываются различные лихорадки, приводятся их причины, методы лечения и профилактики. Шестая книга посвящена «местным» болезням, типичным для определенных стран; седьмая книга — различным отекам, лечению язв, переломов, опухолей; в ней приводятся методы лечения различных пятен на коже; восьмая — косметике; девятая — применению ядов, противоядий и органов различных животных в лечебных целях. Десятая книга «Лекарственные сокровища» состоит из 2 частей; в ней болев 100 растительных, животных и минеральных лечебных средств даны по алфавиту с указанием их происхождения, способов получения, приготовления и применения. Труд ал-Джурджани подвел итог определенному периоду развития М., он является настоящей медицинской энциклопедией, включающей в себя с исчерпывающей для того времени полнотой все сведения о здоровье и болезнях человека и местных лекарственных средствах. Труд ал-Джурджани служил для среднеазиатских врачей источником знаний вплоть до 19 в., когда в Среднюю Азию начала проникать европейская М.
Сильной стороной М. Средней Азии была гигиена. Крупные среднеазиатские города имели высокий уровень благоустройства, в средневековой Бухаре, Самарканде, Ургенче, Ходженте, Мерве и других городах применялись меры общественного характера, способствовавшие предупреждению возникновения и распространения эпидемических болезней. В частности, регламентировался порядок убоя скота и продажи мяса. В соответствии с действующими законами продавцы рыбы были обязаны не проданную за день рыбу вечером солить. «Вода, — сообщает английский историк Элгуд (1951), — разносилась по городу в хорошо закрытых баках и продавалась маленькими чашечками. Пить прямо из бака запрещалось». Еще более строгими были правила продажи молока. Посуда для молока должна была содержаться в особой чистоте, дояркам полагалось носить только белую одежду и т.п. Продажа снятого молока и разбавление молока водой строго преследовались. Во всех известных среднеазиатских медицинских трудах большое внимание уделялось соблюдению правил личной гигиены (чистоте тела, одежды, жилища), правильному питанию, разумному соотношению труда и отдыха, сна и бодрствования. Ибн Сина, ал-Джурджани, автор «Кабус-намэ» придавали важное значение «сохранению правильного телосложения» — осанке, отсутствию избыточного веса. В трудах среднеазиатских врачей нашли отражение вопросы личной гигиены женщины и лиц пожилого возраста, гигиенического ухода за детьми, особенности образа жизни во время путешествий.
Медицина в древнерусском государстве. Во второй половине 1 тысячелетия н.э. начался процесс разложения первобытнообщинного строя у восточных славян. В 6—9 вв. на различных территориях нынешней европейской части СССР образовались восточнославянские союзы племен, внутри которых происходило обособление родоплеменной верхушки во главе с военными предводителями — князьями. Частые военные походы способствовали укреплению военно-дружинной организации, а также подчинению княжеской власти племен и племенных союзов, что стало у славян ранней формой общественной организации. В этот же период начинает развиваться торговля с Византией, странами Востока и Западной Европы. В 9 в. в Среднем Приднепровье создается наиболее раннее государственное объединение восточных славян — Русская земля, или Русь. К 9—10 вв. сложились восточнославянские города — Белоозеро, Киев, Чернигов, Переяславль, Ростов, Псков, Новгород, Полоцк, Смоленск и др. В 882 г. новгородский князь Олег подчинил своей власти города и прилегавшие к ним земли вдоль пути «из варяг в греки» и сделал Киев столицей первого русского государства — Киевской Руси, ставшей к 11 в. одним из крупнейших государств средневековой Европы. Упрочению и развитию феодальных отношений и объединению экономически слабо связанных частей Киевского государства во многом способствовало введение в качестве государственной религии христианства в форме византийского православия (Крещение Руси, 988—989 гг.).
Древнерусская культура сложилась на основе культурных традиций славянских племен, обогащенных византийским влиянием. Еще в середине 9 в. на Руси распространился славянский алфавит. В 11—12 вв. были созданы выдающиеся произведения литературы («Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве» и др.), архитектуры, живописи и ремесел. Имеются сведения о существовании в городах Киевской Руси школ (в т.ч. женских) и крупных книгохранилищ.
Источниками изучения уровня развития М. и медико-санитарного дела в древней Руси служат данные археологии, памятники письменности (летописные своды, сборники законоположений, церковные документы), изобразительного и прикладного искусства, устного народного творчества. К древнейшим памятникам русской медицинской письменности относятся «Изборник Святослава» (по-видимому, византийского происхождения), «Физиолог» — компилятивный трактат из естественнонаучных работ античных авторов и «Шестоднев» Иоанна Болгарского.
В медицине Древней Руси 10—13 вв. основные теоретические положения соответствовали главным образом анатомо-физиологическим концепциям Галена В системе взглядов на природу и принципы распознавания болезней сказалось влияние Гиппократа. Методы лечения, и особенно гигиенические правила, во многом исходили из традиций народной М. восточных славян. Общебиологические представления сводились к признанию существования в «малом мире» (теле человека) 4 «стухий» — огня, воды, земли, воздуха. Представление о здоровье соответствовало понятию «устроя» — ненарушимого равновесия основных свойств этих «стухий» — горячего, холодного, сухого и влажного; болезнь связывалась с «недобрым» смешением соков — «смутой стухий». На основе учения о темпераментах рекомендовалось применение лечебных прижиганий, кровопусканий, слабительных, «чихательных» и других очистительных средств. Учитывалось влияние возраста; наиболее ранимыми признавались младенчество и старость: женский организм считался более хрупким, чем мужской.
Причина болезни носила название «вина недуга»; в мире так много «вин», что их «исчести невозможно». Недуг может быть порожден одной из «вин»; весьма опасно, если они наступают «вкупе». Установление «вины» — задача «лечьцов». У постели больного именно они «бдять и первую вину болезни пытають». Угнетение духа, как и леность, — первые ступени к болезням. Труд же — условие, без которого немыслимо здоровье. Большое значение придавалось диагностике и прогнозу. Диагноз именовался «обличением недуга». «Совершенным лечьцом» называли того, кто мог безошибочно «мощная и немощная разлучити» (отличать). Под «опытанием» понималась сумма приемов обследования больного. Наиболее надежной считалась диагностика по «жилобиению» (пульсу). Однако указывалось, что этот способ доступен лишь наиболее образованным и опытным врачевателям. Существенным подспорьем в диагностике служило «смотрение уринное» (исследование мочи в «стькляницях»). О болезни судили по «малости или множеству урины», особенностям ее цвета, запаха, вкуса, осадка.
Важная роль в диагностике отводилась сбору сведении о прошлой жизни больного и осмотру всего его «обличия», вплоть до привычки разговаривать, сидеть, есть, потому что даже такая деталь, как «смеяние зубь» (улыбка), «ступание ног» (походка), может «возвестить» о свойствах болезни («Изборник Святослава». 1073). Установленные признаки заболевания носили названия «знатьба», «знамение», «послуси» (свидетели). В «Изборнике Святослава» в числе прочих «знамений» образно описан симптомокомплекс fades tuppocratica.
Известно несколько категорий древнерусских врачей. В языческом периоде врачевание волхвов, знахарей, знатьцов представляло сочетание народного опыта с приемами и элементами М. соседних стран. С принятием христианства появился новый тип лекаря — лекарь-монах. Однако, несмотря на официальное преобладание, лекари-монахи не вытеснили полностью народных и светских лекарей. Киевские князья и бояре любили лечиться у «врачов» и у «волхвов». Светскими были первые лекари, обслуживавшие княжеские дружины. Так, в Киево-Печерском патерике говорится, что князь явился к пострадавшему военачальнику в сопровождении «врачов... хотя врачевати его». В «Русской Правде» имеются элементы регламентации практики светского врача, в частности отмечается его право на вознаграждение за лечение.
Сохранились сведения об отраслях врачебного знания. Л.Ф. Змеев (1896) сообщает, что среди славянских лекарей-профессионалов произошло раннее выделение узких специалистов: «кровопусков», лекарей «кильных» (занимающихся лечением грыж), «очных» (особенно по удалению трахоматозных зерен), «чечуйных» или «почечуйных» (по лечению геморроя), «камчужных» (по лечению «ломоты» — подагры, ревматизма), «чепучинных» (по лечению венерических болезней), по лечению «порчи» (кликушества), бабок-повитух, бабок-целителей и др.
В Киеве и других городах популярностью пользовались врачи-иноземцы — греки, сирийцы, армяне, обслуживавшие главным образом князей, боярство и купечество. Православие в этот период не обособило развитие М. на Руси, и в Киевском государстве имели свободное хождение медицинской концепции языческого, магометанского, иудейского, буддийского, католического мира. Врачи-иностранцы имели в городах свои дома, лекарственные «погребы» (аптеки), входили в дружественные и деловые отношения с русскими. Ореолом почета была окружена хирургия, известная по славянским памятникам письменности как «рукоделие», «резание» или «железная хитрость». «Прикуту», «снасть» (хирургический инструментарий) составляли нож, «бричь» (бритва), кроило, пила, рама, сверло, тесле, а набор кровопуска — «прогон», «ражнь», «бодець», различные «железьца кровопустьныя». Раны зашивали суровыми конопляными нитями, «струнами» из кишки, брюшины молодых животных; перевязочным средством служила баранья шерсть. Употребляли болеутоляющие и снотворные средства (красавка, болиголов, опий), их применяли также для обезболивания родов (повесть «Александрия», 11 в.). «Резания» происходили и на дому, но чаще в банях и больницах при монастырях. Причем древнерусские хирурги выполняли достаточно сложные операции: чревосечение, ампутацию конечности, трепанацию черепа и др. В.Д. Отамановский (1965) сообщает, что нередко лекари совмещали функции врачевателей внутренних и кожных болезней с функциями аптекаря и хирурга.
Применялись и консервативные методы лечения внутренних, «моровых», «бесных» (психических), детских и других болезней различными «зелиями» (лекарствами), водой, внушением и другими методами. Сбор и хранение лекарств («зелейничество») еще до принятия христианства осуществлялись лицами, оказывавшими медицинскую помощь. После принятия христианства одновременно с преследованием волхвов, ведунов, кудесников велась борьба и с зелейниками. Однако из практической М. лекарственные средства не исчезли, а наоборот стали назначаться в еще большей степени, в т.ч. и врачевателями монастырей. Неслучайно в Киево-Печерском патерике отмечалось, что «лечець приготовляеть зелия на потребна врачевания, на кийжде недуг». Древнерусские врачи 10—11 вв. располагали значительным арсеналом лечебных средств. Так, в «Шестодневе» описывались применение аконита, болиголова, белены, втирание металлической ртути, получение опия из головок мака, указывалось на целебное значение «топлиц» (минеральных вод). В произведениях 11—13 вв. нередко высказывались суждения, например, о применении прижигания, кровопускания, приводились способы очистки и сшивания раны, наложения на нее «привузы», т.е. повязок и пластырей. Упоминалось также о лечебной диагностике, особенно лекарствоведении, включавшем значительное число растительных, животных и минеральных средств, почерпнутых из арсенала народной М. восточных славян, например назначение дегтя (смол) при чесотке, сырой печени трески — при куриной слепоте, витаминсодержащих овощей и ягод (хрен, редька, лук, чеснок, морошка, клюква и др.) — при цинге, бобровой струи как тонизирующего средства. Лекарственные средства готовились в виде порошков, присыпок, настоев, отваров, мазей, камней для прижигания и других форм. Нередко использовались ванны с настоями из различных трав.
Обозначение болезней и симптомов по преимуществу с помощью славянской лексики свидетельствует об их очень древнем происхождении. Идентификация с современной нозологией затруднительна и порой удается только при тщательном сравнении многих памятников письменности. Прокажением именовали болезни типа волчанки, лепры и другие кожные страдания. Распространена была свербежь (чесотка). Из внутренних, инфекционных и нервно-психических болезней встречаются златяница (желтуха), камчюг (артрит), вдушь (астма), огневая (сыпной тиф) и др.; трясця (малярия) описана в форме вседневной, черездневной и «квартоны», т.е. четырехдневной; гибельные моры — утроба кровавая (дизентерия), чума легочная, мозолие (бубонная чума), возуглие, или прищ горющ (сибирская язва); «точение пены», или «падучая немочь» (эпилепсия), расслабление (параличи).
Передача медицинских знаний происходила от отцов к детям — тип обучения, наиболее свойственный народной М. В апокрифах упоминается об обучении детей лекарями по образцу ремесленного ученичества. В жизни светских врачей-иноземцев и монастырских лечьцов видное место занимали «врачевские отрочате» (подмастерья, ученики). Иногда М. изучали и женщины, например в «Сказании о Муромском князе Петре и девице Февронии» описывается излечение крестьянской девушкой-лекарем князя, тело которого было покрыто струпами. Лечебная практика женщин допускалась и законодательно, о чем, в частности, имеется указание в «Правде Ярославичей».
Больницы как учреждения для «лекования недужных» в отличие от открывавшихся иногда и при частных домах «изб богорадных» (богоделен), в которых инвалиды, престарелые пребывали без лечения, находились обычно при монастырях, церквах. Купеческие, цеховые больницы в Новгородской феодальной республике, Галицко-Волынской Руси получали материальную помощь и от светских властей, однако были в юрисдикции церкви. Передача организации лечебного дела церковным властям была определена уставом князя Владимира Святославича (996). На церковные власти возлагались строительство больниц и безвозмездное оказание медицинской помощи, по-видимому, за счет церковной десятины. Вместе с тем Л.Ф. Змеев (1896) сообщает, что одно из первых упоминаний о стационарном лечебном учреждении на Руси относится к середине 10 в., когда княгиня Ольга организовала больницу, где уход за больными был поручен женщинам. Кроме того, больницы упоминаются в уставе Владимира, т.е. всего через 8 лет после крещения; это позволяет предполагать возможность их существования на Руси до принятия христианства.
О «безбедном» существовании монастырских больниц заботились феодалы, т.к. монастыри являлись крупными военно-госпитальными базами, выгодно расположенными в стратегическом отношении. Для больниц существовали более или менее однотипные положения («уставы»), в которых были оговорены расходы на содержание больных, больничных штатов, порядок управления. Больничные помещения делились на небольшие кельи. Со взрослыми лежали и дети. Изоляции подвергались лишь лица с «изгнившими удами» (по причине смрада), буйные больные, которые нередко содержались в отдельных «печерах» (пещерах) «в цепях» или «на колодах». Во главе больницы стоял «старший над больницей», «смотрител». Обходы («мимохождения», или «прохождения недужных») совершались врачами к «наутрию». Труд санитаров («служебников болничных») был очень тяжелым. Принимались в больницу в первую очередь люди богатые, «жертвователи». Крестьяне за дни, проведенные в больнице, обязывались отплатить монастырю отработкой на пашне, в извозе, на промыслах, скотном дворе.
В древнерусском врачевании большое значение придавали предупреждению болезней.
Уже к 10—11 вв. определился широкий круг санитарно-гигиенических требований к различным сторонам народного бытового уклада. Поселения возводились вдали от болот, при источниках «живой» (доброкачественной питьевой) воды. При археологических раскопках установлено, что в Новгороде уже в 10—11 вв. были мостовые. Обнаруженный там же деревянный водопровод был одним из древнейших в Северной Европе. Избы строились так, чтобы как можно больше света проникало через «окончины». Для длительного хранения пищевых продуктов оборудовались подпольные кирпичные «касти» и другие кладовые. Широко использовались предметы гигиенического обихода и предметы для переработки пищевых продуктов. В образе жизни рекомендовалась умеренность — в приеме пищи, в половой жизни и даже во сне. («Не принимай брашне без алкания и пития без жажды»; «Иначе меры спати подобает мертвым нежели живым»). Но физическими развлечениями — игрой в мяч, скачками, охотой — можно заниматься до усталости. Вопреки взглядам церкви на эти занятия как на грех, они назывались «утехою души, соседствующею с телесным здравием».
О необходимости изоляции больных от здоровых говорится в «Изборнике Святослава». Требование это осуществлялось особенно при эпидемиях, например при сильном море в Полоцке (1092). Проводились порой очень крупные мероприятия по охране общественного здоровья, предупреждению заноса заразы из-за рубежа. Летопись сообщает о массовой очистке в 1230 г. территории Новгорода от тысяч чумных трупов и захоронении их в особых могильниках; осуществляли ее силами многочисленной артели санитаров-уборщиков, на средства церкви.
Во второй половине 11 в. начинали проявляться признаки упадка Киевской Руси. Рост экономической самостоятельности городов, являвшихся крупными торговыми центрами (Новгорода, Чернигова и др.), сопровождался борьбой князей за политическую независимость от Киева. В 1132 г. на территории Киевской Руси образовалось около полутора десятков фактически самостоятельных государств. Зимой 1237 г. началось вторжение монголо-татар в пределы русских земель. Раздробленность помешала дать должный отпор захватчикам. Несмотря на героическое ожесточенное сопротивление, в сравнительно короткий срок было завоевано большинство русских княжеств. Начался продолжавшийся два с половиной века период монголо-татарского ига. Монголо-татары уничтожили и угнали в плен большое количество русских людей, нанесли огромный ущерб экономике и культуре страны, надолго затормозив ее развитие. Но даже в период монголо-татарского ига развитие М. на Руси не прекращалось. Находясь на более низкой по сравнению с Русью стадии культурного развития, монголо-татары вынуждены были пользоваться услугами русских ремесленников и лечьцов.
Медицина в период образования и развития Русского государства (конец 13 в. — начало 17 в.). На рубеже 13—14 вв. на территории северо-восточной Руси наблюдался подъем хозяйства, протекавший в тесной связи с развитием феодального землевладения, особенно церковного, усилением княжеской власти, ростом населения городов как административных, военно-стратегических, экономических и культурных центров. Экономический подъем создавал предпосылки для объединения русских земель в единое государство. Центром этого объединения стала Москва, которая при активной поддержке церкви со второй половины 14 в. выступила организатором борьбы за свержение монголо-татарского ига. Куликовская битва (1380), в которой объединенное войско русских земель под руководством Дмитрия Донского нанесло поражение монголо-татарам, утвердила руководящее положение Москвы, Дмитрий Донской впервые передал великое княжение по наследству без санкции ордынских ханов. Преемники Дмитрия Донского присоединяли к Москве отдельные русские земли. В 1480 г. монголо-татарское иго было свергнуто. В конце 15 в. — начале 16 в. было завершено объединение русских земель. Русское государство вступило в торговые и политические отношения со многими странами Европы. Проходил процесс централизации государственной власти и управления. При Иване IV были ликвидированы Казанское и Астраханское ханства. Началось присоединение к Русскому государству земель Зауралья и Западной Сибири. В конце 16 в. территория Русского многонационального государства равнялась 5,5 млн. км2, население страны составляло около 9—10 млн. Москва превратилась в крупнейший город с населением около 100 тыс. человек. Процесс централизации, неудачи Ливонской войны вызвали обострение борьбы между боярской оппозицией и государственной властью. Иван IV попытался сломить сопротивление феодальной аристократии с помощью террористической системы — опричнины. которая привела к еще большему недовольству в разных слоях общества, к разорению значительной части страны, бегству населения на окраины. Меры правительства по закреплению государственной системы крепостного права вызвали усиление антифеодальных выступлений. Борис Годунов и его правительство не смогли разрешить социально-политического и экономического кризиса в стране.
Русская культура конца 14—16 вв. развивалась в тесной связи с задачами государственного объединения и борьбой с монголо-татарами. Выдающимся достижением русской культуры явились живопись Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия, создание архитектурных ансамблей Московского Кремля, собора Василия Блаженного и др. В 1553 г. началось книгопечатание, в 1576—1577 гг. возникла первая русская провинциальная типография (в Александровской слободе). Однако естественнонаучная, экономическая и политическая литература оставалась рукописной. Значительное отставание наблюдалось в области просвещения. В 14—16 вв. на Руси не было светских школ, отсутствовали специальные и высшие учебные заведения, что существенно сказалось на развитии философских, экономических и естественнонаучных знаний.
Состояние М. и медико-санитарного дела в 14—16 вв. по сравнению с домонгольским периодом также свидетельствует об огромном ущербе, нанесенном русской культуре. Борьба за единство страны и национальное освобождение потребовала величайшего напряжения духовных сил. Естественнонаучные интересы временно отошли на второй план. Этому в числе других причин во многом способствовали значительное упрочение положения и усиление влияния церкви, всегда препятствовавшей распространению и развитию естественнонаучных знаний, светской медицинской практики и светского медицинского образования. С конца 13 в. и вплоть до второй половины 15 в. не встречается упоминаний о светских врачах и о медицинских школах.
Вместе с тем традиции народной М. не были утрачены. Лечьцы различных «специальностей» практиковали в городах и селах Руси, продолжались составление и распространение рукописных произведений медицинского характера — зелейников, лечебников, в которых находил отражение опыт народной М. и русских лекарей. В них описывались целебные свойства растений, давались советы, как лечить некоторые заболевания, пользоваться банями и т.п. Несмотря на сильное влияние церкви в быту и, в частности, в лечебном деле, лечебники и зелейники во многих случаях содержали практические сведения без всяких элементов религии и мистики. В некоторых лечебниках встречались и советы гигиенического характера.
В 15—16 вв. начали появляться оригинальные и переводные медицинские произведения, содержащие теоретические и медико-социалистические сведения, популярные естественнонаучные книги энциклопедического типа — «Луцидарус» («Просветитель»), азбуковники. К первой половине 15 в. относится список рукописи «Галиново на Ипократа», обнаруженный в Кирилово-Белозерском монастыре, представлявший собой небольшой переводной трактат-комментарий, в котором кратко излагались теории М. античных авторов. В трактате «Врата Аристотелевы», или «Тайная тайных», появившемся на Руси к концу 15 в. на белорусском языке, проводилась идея обособления М. от религии. Книга пробуждала интерес к человеческой личности, резко осуждала вражду и воинственность. Выдвигалась необходимость путешествия различных мастеров в зарубежные страны, чтобы ближе узнавать обычаи чужих народов, воспринимать от них все полезное. По-новому обрисован этический облик врача. Во враче одинаково хороши должны быть как его мысли, так и тело и одежда. Внутреннее украшение врача должны составлять доброта, отзывчивость, упражнение в постоянном самовоспитании. К личным оскорбителям ему следует относиться с философским равнодушием. Круг требований к врачебной профессии приведен на основе критического разбора мнений Аристотеля, Гиппократа, Галена, «Овисиньны»» (Ибн Сины), Маймонида и других представителей античной и средневековой философии и М. Основой врачебного знания должно быть изучение книг. Другую сторону врачебного образования составляют опыт, эмпирия («покушение»). Лишь неразумный лекарь может быть закоснелым в теории. В равной степени и предпочтение одной эмпирии уподобит «покусника слепцу, ходящему мыслию, но не опирающемуся на посох». Плачевно положение больного, рискнувшего отдать себя в руки врача, не сведущего ни в том, ни в другом; оно подобно судьбе мореплавателя, пустившегося в бурные волны без руля и парусов. В М. должны гармонически сочетаться обе стороны. Одна из глав «Врат» посвящена учению о «прирождении» (конституции). Во «Вратах» имеется много высказываний о «принципах» построения медицинской помощи в государстве. Вся забота об этом должна быть возложена на «властелина». Слуг своих он обязан обеспечивать лечением, помещать недужных в больницы. Большое внимание во «Вратах» отведено сводке диагностических приемов, изложены способы исследования глаз, уха, неба, кожи, груди, конечностей. Подвижность суставов ноги надо устанавливать при беге. При определении умственных способностей больной должен быть побуждаем к активному разговору с врачом. Описаны методы ощупывания живота, бужирования носослезного канала. Несмотря на запрещение «Врат» Стоглавым собором (1551), эта рукопись пользовалась большим спросом у читателей и явилась Значительным событием в культурной жизни общества. «Врата Аристотелевы» представляют большой интерес и с точки зрения ответа на вопрос, как преломлялись и ассимилировались на русской почве воззрения арабской М. и западной М. эпохи Возрождения. В 1534 г. под названием «Вертоград здоровья» была переведена книга «Hortus sanitatis», в которой наряду с подробными описаниями разнообразных растений, животных, минералов приводились бесчисленные прописи для лечения всех известных тогда болезней, а также содержались особые главы («Учения», «Рассуждения») о моче, пульсе, лихорадке, о правилах «вхожьдения баньнаго», советы, как вести себя здоровому при моровых поветриях.
В области практического врачевания, больничного дела продолжалось накопление собственного опыта в лечении и предупреждении болезней, намечался все больший отход от византийских шаблонов. Основанная Сергием больница в Радонеже со второй половины 15 в. стала образцом больничного уклада для всех монастырских больниц. Повсеместно были восстановлены больничные порядки домонгольского периода, суровее стала штрафная шкала для «служебников больничных, небрежащих о недужных».
Со второй половины 15 в. в Москву в числе других иноземных мастеров начали приглашаться и врачи. Первое упоминание об иноземном враче при московском дворе Антоне Немчине относится к 1483 г. Практика его оказалась недолгой. Хотя Иван III и «держал Антона в чести», неудачное лечение татарского царевича Каракача стоило ему жизни. Печальной была судьба и другого иноземного лекаря, прибывшего в 1490 г. из Венеции на московскую службу «мастера Леона Жидовина». После смерти старшего сына Ивана III князя Ивана Ивановича, которого пытался лечить Леон, по приказу великого князя он был обезглавлен. Однако это не отвратило иноземцев от московской службы, вероятнее всего в связи с тем, что они приглашались на весьма выгодных условиях. При дворе Василия III служили три иноземных врача. Особым доверием и расположением великого князя пользовался врач Николо (по русским источникам Николай Булев) из Любека. Это был, вероятно, весьма образованный для своего времени человек. Имперский посол Франциск ди-Колло, посетивший Москву в 1518 г., называл его профессором медицины, астрологии и других основных наук. Во второй половине 16 в. приглашение к московскому двору иноземных врачей стало обычным делом. Уже при Иване IV их служило не менее 10, а состав врачей при дворе Бориса Годунова был настолько значителен, что для лечения внезапно заболевшего в Москве жениха царевны Ксении был образован консилиум. О подготовке национальных врачебных кадров на территории Русского государства в этот период нет достаточно достоверных сведений. Имеются данные, что в конце 16 в. — первой половине 17 в. правительство обязывало иноземных врачей обучать русских учеников врачебному делу «со всяким тщанием и ничего не тая». Известно, что у промышленников Строгановых работали русские врачи-ремесленники. Один из них награжден Иваном IV за лечение Бориса Годунова.
В 16 в. начали предприниматься первые шаги по медицинскому обеспечению армии. Раненым выдавались деньги от 1 до 5 руб. «на лечбу ран» у ремесленников-лекарей (костоправов, знахарей и др.), сопровождавших обычно московские рати в походах. Впервые о штатном лекаре, состоявшем при полку, упоминается в 1615 г. (М.Ю. Лахтин, 1906).
Для борьбы с эпидемиями применялись в основном те же меры, что и в предшествовавшие века. Во второй половине 15 в. начала упорядочиваться противоэпидемическая охрана государственных границ. Вошло в традицию оповещение центра с рубежей о надвигавшейся эпидемии. Московские власти стали практиковать «обыски» (обследования) эпидемических очагов, а также различные способы карантинизации городов, улиц, дворов и домов. Против распространения инфекции и для обеззараживания предметов широко применялись костры, засеки и т.д. Трупы умерших от инфекционных болезней быстро хоронили, гробы заливали смолой, дегтем, известью. Носильное платье, домашняя рухлядь, а иногда целые дома сжигались. Контроль за исполнением распоряжений правительства по борьбе с сибирской язвой, тифами, дезинтерией, венерическими болезнями возлагался на систему Губного приказа. Разумеется противоэпидемические правила выполнялись далеко не всегда, но самый факт их существования и требование выполнения под страхом смертной казни свидетельствуют о существовании представлений о передаче заразных болезней и возможности их устранения прерыванием путей передачи.
Открытие общественных бань, забота о чистоте улиц, рынков, наблюдение за продажей пищевых продуктов, поношенной одежды регламентировались специальными царскими указами, распоряжениями местных властей в уездах, что несомненно способствовало предупреждению эпидемических болезней.
Предписания и советы по повседневной бытовой гигиене большей частью включались в наставления нравоучительного содержания. Так, «Домострой» — наставление по ведению хозяйства в боярском доме, составленное в середине 16 в., затем дополнявшееся и содержавшее указания хозяйственного, кулинарного, педагогического, религиозного характера, — включал также советы по лечению болезней и указания по гигиене: о вытирании ног при входе, смене белья, тщательном мытье посуды в двух водах, хранении в чистоте пищи и др. Мысли о предупреждении болезней все чаще находили отражение в сочинениях писателей того времени — Максима Грека, Даниила, Матвея Башкина, Феодосия Косого. В окружном послании к «воинам» в новостроящийся на Волге город Свияжск митрополит Макарий, «умоляя» их воздерживаться от сближения с «блудными женками», говорил, что после этого бывают «нечистые болезни». В медицинской литературе, во всех вариантах вертоградов, сказаний о пропущении вод и даже в травниках был принят термин «презервативум» — понятие, включающее сумму приемов и способов предохранения человека от заразных и незаразных болезней.
Присоединение в 16 в. новых территорий (Поволжья, Севера, Сибири) изменило патогеографию Руси. Появились сообщения о массовых «очных недугах» — трахоме (с Поморья, бассейна Камы, Средней Волги), широкое распространение получила «злая корчь» (эрготизм). «Трясцу» и «утробную болезнь» возвращавшиеся из-под Казани и Астрахани воины-северяне заносили далеко к морю «Студеному», вплоть до Соловков, Колы и Печоры. Грозные размеры принимали «огневые недуги» зимой, сибирская язва «на скотех и людех» летом и осенью. Это не могло не привлечь к себе внимания правительства. К 1550 г. относится намерение Ивана IV открыть государственные больницы, однако эти планы остались неосуществленными. Общественное призрение стало предметом обсуждения Стоглавого собора (1551). В 16 в. появились прообразы временных приютов для детей-сирот и питательные пункты для голодающих крестьян (при Волоколамском монастыре). Значительную реорганизацию претерпели больницы на Соловках, в устье Северной Двины, Пермских солеварнях.
В 1381 г. Указом Ивана IV была открыта первая «царева» аптека и учрежден аптекарский приказ, первоначально ведавший делом лечения царя и царской семьи, а в 17 в. ставший центральным органом управления медицинским делом в Русском государстве.
Медицина в России 17 в. Внешнеполитические и хозяйственные последствия смутного времени были преодолены лишь к середине 17 в., что, однако, не вызвало устойчивой политической и экономической стабилизации. Во второй половине 17 в. социальные противоречия достигли особой остроты и привели к многочисленным массовым народным движениям, носившим ярко выраженный антифеодальный и антикрепостнический характер (Московское восстание в 1662 г., Крестьянская война под руководством С.Т. Разина). Другое проявление социальных противоречий — раскол русской церкви. Для общественных отношений и культуры России середины и особенно последней трети 17 в. характерны черты Ренессанса, хотя они и не развились в полной мере. В художественной литературе проявлялись реалистические тенденции, прославлялись природа и труд простых людей, церковной проповеди аскетизма противопоставлялись права человека на земные радости. Активизировалась переводческая и книгоиздательская деятельность, причем переводились и издавались главным образом книги светского содержания.
В развитии русской культуры в 17 в. значительную роль сыграли такие видные славянские и русские мыслители, писатели и государственные деятели, как Ю. Крижанич, Н.Г. Спафарий, С. Полоцкий, А.С. Матвеев, А.Л. Ордин-Нащокин, Ф.М. Ртищев, В.В. Голицын. По их инициативе и при непосредственном их участии составлялись и переводились различные образовательные пособия, грамматики и лексиконы, энциклопедические сборники, географии, космографии и «книги врачевские», что являлось плодом сознательно-просветительской деятельности своеобразного гуманистического кружка, который занимался розыском, перепиской и иногда подновлением древних текстов, а также распространением более новых текстов самого разнообразного содержания (беллетристических, богословско-апокрифических, естественнонаучных и др.).
Происходили сдвиги в деле просвещения, начали появляться приходские и средние (грамматические, греко-латинские) школы. В 1667 г. в Москве открылся гимнасион, в 1687 г. — Славяно-греко-латинская академия. Увеличилось количество прикладной литературы, в т.ч. по медицине. В 50-х гг. была напечатана первая книга по медицине «О моровой язве», авторство которой приписывалось патриарху Никону. Во второй половине 17 в. в Россию с Запада начали проникать достижения нового естествознания: украинский мыслитель Е. Славинецкий (умер в 1675 г.) перевел «Эпитоме» А. Везалия, «Атлас» Блау, в котором излагалась система Н. Коперника.
Однако, несмотря на известные достижения в накоплении и распространении знаний, общий уровень культуры и грамотности населения был низок. В просвещении продолжала господствовать церковь. Естественнонаучного и технического образования не было, а в Славяно-греко-латинской академии естествознание по существу не преподавалось.
Состояние медицины и медико-санитарного дела в 17 в. соответствовало общему уровню культуры и образования в стране и свидетельствовало о значительном отставании России в естественнонаучных знаниях от передовых стран Западной Европы. В стране не было ни медицинской науки, ни медицинского образования, ни сколько-нибудь удовлетворительной медицинской помощи. Научная медицинская литература была исключительно переводной и не имела широкого распространения. Имевшая более широкое хождение медицинская литература, отражавшая опыт лекарей-ремесленников и частично включавшая теоретическое наследие античных авторов и арабских врачей, в 17 в. в значительной степени утратила свое прогрессивное значение. Да и сами лекари-ремесленники уже не могли считаться полноправными представителями врачебной профессии, т.к. к концу 17 в. передовая М. перестала быть только ремеслом и серьезная естественнонаучная подготовка, которой были лишены лекари-ремесленники, стала обязательной и едва ли не основной частью медицинского образования. Такие важные начинания в области медицины и медико-санитарного дела, предпринятые в 17 в., как попытка начать подготовку отечественных врачей, создать государственные лечебные учреждения, организовать централизованное управление медико-санитарным делом, сбор лекарственного сырья в масштабах страны, не были доведены до конца. Их попросту некому было воплощать в жизнь. Образованных людей было крайне мало, и не только М., но и другие сферы деятельности, в т.ч. государственное управление, испытывали острую нужду в кадрах. Но, хотя М. мало продвинулась вперед, 17 в. имел для ее развития принципиальное значение. Именно тогда была осознана необходимость государственной регламентации медико-санитарного дела, передачи лечебной помощи из рук церкви в руки государства и органов местного управления, создания системы подготовки национальных врачебных кадров на основе освоения достижений передовой медицинской науки Западной Европы и с учетом национальных традиций.
Характер и объем противоэпидемических мероприятий в течение 17 в. практически не изменились. В борьбу с последствиями моров наряду с «губными» учреждениями вовлекались и другие приказы. В городах проводилась регулярная очистка улиц, площадей от павших животных, мусора. В Москве действовал санитарный обоз для вывоза нечистот. Были наняты метельщики улиц, рынков. В уезды посылались указы об отводе на реках мест для стирки белья, вымачивания кож, давались советы, где и как искать хорошую питьевую воду, как построить светлую и сухую избу и пр. Был выработан порядок оповещения населения о распространении заразных болезней, правительственные распоряжения оглашались «бирючами» на базарах и «хрестцах». подъячие вычитывали их «зычным гласом» у приказных изб. В лечебниках появлялись специальные разделы с описанием клинических и эпидемических признаков мора и советы о поведении здоровых граждан города, села, жильцов каждого дома. Но все это мало влияло на санитарное состояние страны. Заразные болезни продолжали быть основным бичом для населения.
В 1620 г. после перерыва в связи с неурядицами смутного времени возобновил свою работу Аптекарский приказ, который в 17 в. стал центральным органом управления медико-санитарным делом в стране. Приказ имел значительный штат медперсонала (доктора, лекари, аптекари, аптекарские мастера и помощники, подлекари, цирюльники, костоправы, рудометы, чепучинных дел мастера, окулисты, алхимики и др.) и собственный весьма значительный по тому времени бюджет. Важнейшими задачами приказа были найм иноземных врачей и других специалистов по М., организация лекарственного снабжения, медицинское и лекарственное обеспечение армии, проведение санитарно-карантинных мер, а с 1670 г. — вообще борьба с «прилипчивыми» болезнями. Дьяки приказа при приеме иностранных специалистов тщательно проверяли их документы, наводили справки об их образовании и врачебной деятельности. Если вновь прибывший зарубежный специалист не мог предъявить документов об образовании и предшествовавшей практике, его подвергали тщательному опросу, а иногда формальному экзамену с помощью докторов Аптекарского приказа. По-видимому, такой серьезный подход в значительной степени способствовал тому, что большинство служивших в Москве в 17 в. врачей-иностранцев были весьма компетентными специалистами и имели докторские дипломы лучших университетов того времени. Число приглашаемых на работу в Москву медицинских специалистов в течение 17 в. постоянно росло. Так, царствование Михаила Федоровича (1613—1645) на службу было принято 8 докторов, 5 лекарей и 4 аптекаря, а при Петре I только в 17 в. (1682—1699) — 11 докторов, 87 лекарей, 1 глазной врач и 9 аптекарей.
В 1654 г. при Аптекарском приказе была открыта лекарская школа для «обучения учеников лекарского дела» (имелась в виду подготовка специалистов для хирургической практики), куда первоначально было принято 30—35 «стрельцов, стрелецких детей и разных чинов людей». Срок обучения определялся индивидуально — от 4 до 6 лет, программа обучения включала изучение медицинской ботаники, лекарствоведения и практической фармации, анатомии по скелету. Через 2 года добавлялись патологотерапевтические занятия, диагностика («знамена немочей») и амбулаторный прием. С 4-го года обучения учеников передавали лекарям на дом для обучения хирургической патологии и технике, с лекарями они выезжали на войну, где оказывали помощь раненым под руководством преподавателей. Сколько времени просуществовала московская лекарская школа, точно неизвестно. Первый выпуск лекарей состоялся в 1658 г. и составил 13 человек. Русских лекарей направляли главным образом в армию, однако с конца 70-х гг. они постоянно значились в списках московского врачебного персонала. Некоторые выпускники Московской лекарской школы получили широкую известность, с успехом выполняли сложные по тому времени операции. Однако по уровню общемедицинской и естественнонаучной подготовки они уступали работавшим в Москве врачам, окончившим европейские университеты. В связи с этим в конце 17 в. для обучения М. в зарубежные университеты начали направлять сыновей проживавших в Москве иностранцев и русских молодых людей. Так, в 1661 г. сын «иноземца русской службы» Т. Келлермана был отправлен за границу и прослушал курс медицинских наук в Лейпциге, Париже и Падуе; по возвращении в Россию занял должность доктора Аптекарского приказа. В 1692 г. в Падуанский университет был направлен сын дьяка Посольского приказа выпускник Славяно-греко-латинской академии П.В. Посников. В 1694 г. он успешно защитил диссертацию, став первым русским, получившим степень доктора медицины и философии. Стремясь к научной деятельности. П.В. Посников просил разрешить ему временно остаться при университете для завершения начатых физиологических опытов («живых собак мертвить, а мертвых живить»). Однако в связи с хорошим знанием языков ему пришлось выполнять неотложные дипломатические поручения, после чего он в 1701 г. возвратился в Россию. О судьбе направленного в 1698 г. в Падуанский университет Г.И. Волкова ничего не известно.
Среди многообразных функций Аптекарского приказа важное место занимали лекарствоведение и аптечное дело. Поскольку закупки за рубежом требовали больших затрат, Аптекарский приказ предпринял попытку организовать сбор и заготовку лекарственного сырья на местах. Воеводам рассылались царские указы с предписанием собрать и доставить определенное количество трав и ягод, «к лекарственному делу годных». Однако на местах сбор лекарственных растений нередко поручался несведущим людям, поэтому иногда заготавливались травы, не обладавшие лечебными свойствами, а подчас вредные. По-видимому, это обстоятельство вынудило Аптекарский приказ уже в 70—80-х гг. ограничить номенклатуру и территории для сбора и заготовки лекарственных растений.
Предпринимались меры и для акклиматизации лекарственных растений в Москве. С этой целью создавались аптекарские огороды — прообразы будущих ботанических садов. Огородами управляли иностранные специалисты-ботаники («огородники»). На главном (Кремлевском) огороде была устроена особая «поварня», в которой дистилляторы «ведали всякое водочное и спиртовое сиденье», а равно «всякое травы, цветы, коренья и семена».
С 20-х гг. 17 в. к пользованию «царевой» аптекой стали допускаться ближние бояре и дьяки, В 1672 г. была открыта вторая «нижняя» аптека, продававшая лекарства «всяких чинов людям». Имеются сведения, что в 17 в. появились аптеки и в других русских городах — Новгороде, Пскове, Казани, Курске, Киеве и др. Первые русские аптеки представляли собой учреждения для своего времени солидные; они отличались не только полнотой инвентаря, но даже известной роскошью. Лекарства отпускались больным по «дохтурской прописи» (рецепту) на латинском языке с переводом на русский; дозировка исчислялась на нюрнбергском весе. Аптечная продукция, по-видимому, пользовалась значительным спросом, о чем свидетельствует, в частности, значительный доход «нижней» московской аптеки — 4—4,5 тыс. в год. Во второй половине 17 в. Аптекарским приказом были приняты меры к установлению монополии на торговлю определенными лекарственными средствами, что, видимо, было связано и с осознанием опасности для населения бесконтрольного применения лекарств. По указу 1687 г. в «зелейных рядах» и лавках знахарей запрещалась торговля сильнодействующими средствами, а также изготовление некоторых лекарственных форм. Однако этот указ, вероятно, выполнялся недостаточно строго, в частности и потому, что аптек в городах было мало, не говоря уже о сельской местности, где до земских реформ 60-х гг. 19 в. мало кто знал, что означает само слово «аптека».
В числе государственных медико-санитарных мер на одном из первых мест стояла забота об организации медицинской помощи в войсках. С конца 17 в. по полкам начали рассылаться ящики с медикаментами, которые подлежали хранению у «разрядного шатра» — у командира. Выдачей лекарств больным и раненым ведали назначенные командиром лица. Раздавались также традиционные противоцинготные средства — винный уксус, пиво, солод. Во многих полках имелись штатные лекари и костоправы. Одновременно сохранилась прежняя система выдачи раненым воинам денег «на лечбу ран», поскольку медперсонала в армии не хватало.
Положение о больницах на протяжении 17 в. не претерпело существенного изменения. Они по-прежнему находились под эгидой монастырей: действовали те же суровые уставы и штрафы. В то же время предпринимались попытки силами гражданских властей создать учреждения для оказания помощи раненым типа военно-временных госпиталей. Известно, что такой госпиталь появился в 1656 г. в Смоленске. В 1678 г. в Москве на нескольких подворьях было организовано многомесячное лечение больных и раненых после боев под Чигирином. Избы для раненых были хорошо утеплены, снабжены войлоком, матрасами, топчанами. Для обслуживания привлекли почти весь штат московских лекарей, в большинстве русских. Предпринимались меры и для организации гражданских лечебных учреждений и богаделен. В 1652—1654 гг. боярин Ф.М. Ртищев открыл в своих домах две гражданские больницы-богадельни. Во второй половине 17 в. во многих городах, особенно на Севере и в Сибири, началась организация богаделен («богорадных изб»). Строительство и содержание этих богаделен возлагались на церкви и монастыри, но руководство оставалось за органами местного управления. Средств на их содержание практически не отпускалось, некоторые церкви и монастыри эпизодически поставляли пищевые продукты. Поэтому находящиеся в богадельнях жили на подаяния и пожертвования, одевались в обноски. В 1682 г. по указу Федора Алексеевича в Москве на Гранатном и Смоленском подворьях началось строительство двух больниц — «шпитален» для гражданского населения. Точные сведения об их открытии отсутствуют. В этих больницах предполагалось не только лечить больных, но и обучать молодых врачей: «... И у того дела молодым дохтурам не малая польза и науке своей изощрение...». Т.о.. по существу формулировался принцип обучения врачей у постели больного. 25 лет спустя, при Петре I, этот принцип практического обучения врачебному делу у постели больного и в процессе участия в лечении был положен в основу системы подготовки врачей в госпитальных школах.
Последнее десятилетие 17 в. ознаменовано началом реформаторской деятельности Петра I. Во многих отношениях 17 в. был переломным для России. Он стал как бы рубежом, разделившим политические, идеологические, хозяйственные и культурные традиции средневековой Руси и экономику, политику, идеологию, науку и культуру Нового времени. К концу 17 в. в России созрели предпосылки для коренных преобразований в экономике, государственном управлении, идеологии и культуре. Эти преобразования в 18 в. изменили М. и медико-санитарное дело в стране.
Медицина в России в 18 в. Реформы Петра I, направленные на преодоление отсталости России от передовых стран Западной Европы, коснулись всех сторон государственной и общественной жизни. В первой четверти 18 в. было построено свыше 200 промышленных предприятий, обеспечивающих главным образом военные нужды, новые крепости и города, созданы флот и регулярная армия, проведена реформа центрального и местного управления. Преобразования укрепили экономическое и политическое положение дворянства, упрочили абсолютизм (с 1721 г. Россия была провозглашена империей), ослабили позиции церкви, которая с 1721 г. была подчинена государству. Военные и дипломатические успехи, внутренние преобразования обеспечили России положение великой державы.
При ближайших преемниках Петра I продолжалось интенсивное развитие мануфактурного производства: к 1750 г. в стране имелись 72 «железных» и 29 медеплавильных заводов, выплавлявших металла в 1,5 раза больше, чем заводы Великобритании, за 1726—1750 гг. удвоился внешнеторговый оборот. Абсолютистское государство, заинтересованное в сохранении экономического и политического господства дворянства, пыталось приспособить крепостническое хозяйство к торгово-денежным отношениям. Во второй половине 18 века расширились права помещиков на личность и имущество крестьян, а крепостничество приобрело наиболее уродливые формы. Следствием этих процессов явилось дальнейшее обострение социальных противоречий. Ряд депутатов комиссии по составлению нового «Уложения» (1767—1768) поставил вопрос об ограничении крепостного права. Массовое недовольство крестьян вылилось в самую крупную в истории России Крестьянскую войну под руководством Е.И. Пугачева, в которой активное участие приняли казаки. После жестокой расправы над восставшими правительство усилило власть дворянства на местах, укрепило государственный аппарат, приняло меры для подавления антикрепостнических выступлений и передовой общественной мысли (аресты А.Н. Радищева в 1790 г., Н.И. Новикова в 1792 г.).
18 в. был временем крупных преобразований в просвещении и духовной жизни русского общества: возникла сеть общеобразовательных школ, получило развитие профессиональное образование (военное, техническое, навигационное, медицинское, горное, коммерческое); в конце 18 в. — начале 19 в. имелось 550 специальных учебных заведений, в которых обучалось 62 тыс. человек. Со второй четверти 18 в. создавались закрытые учебные заведения для дворян. В 1725 г. при Академии наук был организован академический университет, в 1755 г. открылся Московский университет с медицинским факультетом (1764). При академическом и Московском университетах создавались гимназии для подготовки талантливой молодежи к научной и педагогической деятельности. Одновременно активизировалось направление русских молодых людей для обучения в европейские университеты. Выдающуюся роль в развитии просвещения и образования в России сыграли деятельность М.В. Ломоносова, просветительские педагогические идеи И.И. Бецкого и Н.И. Новикова. С 1703 г. начала издаваться первая русская газета, а также светская, в т.ч. научно-техническая, литература. Были созданы крупные издательства. В 1714 г. открылась первая государственная библиотека, переданная в 1725 г. Академии наук. В 1728 г. вышел первый русский журнал «Месячные исторические, генеалогические и географические примечания в Ведомостях», в котором публиковались и материалы по медико-биологической тематике; в течение 18 в. выходило около 200 периодических изданий.
Изменение духовной жизни общества дало импульс для развития философии. Большую роль в критике схоластических представлений и развитии светской философской мысли сыграла деятельность Ф. Прокоповича, А.Д. Кантемира. В.Н. Татищева, стремившихся согласовать веру с разумом и разграничить, не противопоставляя друг другу, философию и богословие. Родоначальником материалистических философских традиций в России был М.В. Ломоносов. Одновременно зарождались и крепли идеи просветительства (Я.П. Козельский, Н.И. Новиков), революционного мировоззрения (А.Н. Радищев).
Развивались естественнонаучные и технические знания. В начале века началось изготовление научных приборов и инструментов, в 1720—1727 гг. была организована химическая лаборатория. Интенсивно изучалась территория страны, были созданы первые достоверные географические карты, в 1734 г. издан первый русский печатный географический атлас. Учреждение Академии наук (1724) сыграло большую роль в прогрессе отечественной науки. Появились исследования, основанные на атомистических представлениях о веществе, принципах сохранения вещества и движения. Интенсивно разрабатывались проблемы прикладной математики, физики, химии, развивалось экспериментальное направление, изучались флора и фауна России. Целую эпоху в развитии русской науки составила деятельность М.В. Ломоносова, органически сочетавшего широкий философский подход с решением практических задач.
Изучались демографические проблемы, развивалась техническая мысль. Во второй половине 18 в. открылись новые высшие учебные заведения, в т.ч. Медико-хирургическая академия в Петербурге (1798). В 1765 г. возникло первое русское научное общество — «Вольное экономическое общество», сыгравшее важную роль в пропаганде гигиенических знаний и оспопрививания.
Коренным образом изменились состояние медицины и медико-санитарное дело. В 18 в. было положено начало подготовке отечественных медиков, создана передовая для своего времени система медицинского обеспечения армии и флота, заложены основы государственного управления медико-санитарным делом, санитарного законодательства, аптечного дела, появились первые государственные лечебные учреждения, зачатки организации медицинской помощи городскому населению и фабрично-заводской медицины. Медицина и медико-санитарное дело освободились от власти церкви и полностью перешли в юрисдикцию государства.
В связи с состоянием науки и философии того времени материализм, характерный для русских врачей 18 в., был ограниченным, но их мировоззрение противостояло распространенным идеалистическим воззрениям многих ученых и видных врачей Запада. Основой медицинской науки они считали опыт и наблюдение, критикуя хаотическое нагромождение «систем», характерное для европейской М. того времени. Исключительно важным представляется и стремление передовых русских ученых-медиков и врачей 18 в. активно участвовать в разрешении важнейших задач, стоявших перед страной. Видимо, с этого времени установилась традиционная связь передовой русской медицинской науки с передовой общественной мыслью, появились первые ростки общественной медицины и социально-гигиенической мысли.
Большой фактический материал, дающий возможность проследить процесс возникновения научных представлений о влиянии условий жизни на здоровье населения, содержат медико-топографические описания отдельных местностей России. Уже в первой половине 18 в. русские ученые начали разработку методики комплексных топографических исследований. Выдающийся русский географ и историк В.Н. Татищев (1686—1750) составил в 1734 г. и разослал по губернским и провинциальным канцеляриям Сибири и Казанской губернии «Предложение с вопросами» — первую в России научно разработанную анкету по обследованию местности. М.В. Ломоносов, разработавший анкету из 30 вопросов, научно обосновал план подготовки и проведения работ по изучению экономики и географии страны. Академией были организованы специальные экспедиции с целью описания различных населенных пунктов и местностей России. В этих экспедициях приняли участие такие выдающиеся ученые, как И.И. Лепехин (1740—1802), П.С. Паллас (1741—1811), С.Г. Гмелин (1745—1774), Ю.А. Гюльденштедт (1745—1781) и др. В составленных ими отчетах и описаниях имелись сведения, относившиеся к санитарному состоянию населения, заболеваемости, причинам болезней и их лечению. В составе второй экспедиции на Камчатку (1733) были врач Стеллер, натуралист И.Г. Гмелин (1709—1755), студент С.П. Крашенинников (1711—1755) и др., изучавшие санитарное состояние народов Сибири и Камчатки. Первое медико-топографическое исследование, связанное с высокой смертностью солдат гарнизона г. Кизляра, было проведено в 1754—1755 гг. врачом В.Я. Гевиттом по инициативе президента медицинской коллегии П.З. Кондоиди (1710—1760), составившего специальную инструкцию для этого исследования. В результате была показана связь заболеваемости и высокой смертности с тяжелыми условиями службы, антисанитарным состоянием жилищ, неудовлетворительным питанием, плохим состоянием лазаретов. Продолжая начинание П.З. Кондоиди, архиатр Я. Монзей в 1762 г. издал «Наставление состоящим в службе при полках, во флоте и прочих всех команд лекарям, как поступать при отправлении своей должности», согласно которому врачи обязаны были изучать влияние условий жизни и «болезненных обстоятельств» на здоровье населения, а итоги своих исследований присылать в Медицинскую канцелярию. Этим было положено начало централизованному сбору сведений о причинах заболеваемости населения. С 1797 г. составление медико-топографических описаний было вменено в обязанности инспекторов и уездных лекарей вновь созданных врачебных управ.
В 18 в. были осуществлены крупные меры по медико-санитарному обеспечению армии и флота. В составленных Петром I Воинском (1716) и Морском (1720) уставах, регламентах (Военном, 1721, Адмиралтейском, 1722) предусматривалось создание штата врачей и лекарей в войсках (один доктор и один штаб-лекарь на дивизию, один полевой лекарь на полк), много внимания уделялось мерам по сохранению здоровья и предупреждению болезней как в походе, так и в мирное время. Были изданы указы о соблюдении гигиены в войсках и на кораблях, о предупреждении заразных болезней в армии, об улучшении помощи больным и раненым. Создавалась сеть военных госпиталей, первый из которых был открыт в 1707 г. — «Московская гофшпиталь». С 1712 г. организовывались инвалидные госпитали и богадельни для престарелых и увечных воинов. В наставлении армии, направлявшейся в персидский поход (1722), Петр I уделил внимание и тому, как нужно беречь солдат в условиях жаркого климата. Медицинским вопросам уделялось большое внимание в русской армии и на флоте и при преемниках Петра I. «Солдат дорог — береги здоровье», — писал А.В. Суворов в своей «Науке побеждать». В многочисленных приказах он отмечал значение чистоты тела, одежды, белья, лагерей, казарм, питьевой воды для сохранения здоровья и предупреждения болезней, требовал улучшения пищи солдат, указывал, что забота о здоровье солдата — первоочередная обязанность не только врача, но и командира. Высоко ценил А.В. Суворов своего штаб-лекаря Е.Т. Белопольского (1753—?), требуя от всех офицеров знания его полевого лечебника. А.Г. Бахерахт — главный доктор российского флота (1760—1796) — считал основной задачей М., правительства и общества в целом «пресекать причины, рождающие болезнь», и уделял много внимания проведению гигиенических мер по охране здоровья моряков.
Проявлялась и забота об учете и восполнении людских ресурсов. В 1712г. на духовенство была возложена обязанность ежеквартально подавать отчет о числе родившихся и умерших лиц мужского пола. Указом 1715 г. было предписано «в Москве и других городах и при церквах, в которых пристойно при оградах сделать гофшпитали... и избрать искусных жен для сохранения зазорных младенцев, которых жены и девки рожают беззаконно». В отношении нарушителей устанавливались суровые меры: «наказывать смертью тих, кои дерзнули отклонять помощь сию, прибегая к детоубийствам». Однако из-за недостатка средств решить вопрос о призрении подкидышей Петру I не удалось. Это было сделано лишь в 60-х гг. 18 в. Екатериной II, открывшей воспитательные дома в Москве (инициатор их организации И.И. Бецкой руководствовался идеей создания «третьего сословия», свободного и обученного мастерству и ремеслам).
Основным препятствием для развития медицины и медико-санитарного дела был недостаток медицинских кадров. В начале 18 в. Петром I было принято на службу около 150 иностранных врачей и лекарей. Однако удовлетворить потребность армии и населения за счет найма иностранных врачей было невозможно как по финансовым соображениям, так и в силу того, что необходимым для России количеством «лишних» врачей Европа просто не располагала. В 1706 г. по предложению находившегося на русской службе голландского врача, выпускника Лейденского университета Н.Л. Бидлоо (1670—1735) Петр I издал указ построить в Москве госпиталь и набрать «из иноземцев и из русских изо всех чинов людей... для аптекарской науки 50 человек». Строительство госпиталя и анатомического театра при нем закончилось в 1707 г. Госпитальная (медико-хирургическая) школа — первое в России учебное заведение для подготовки военных врачей — была открыта в ноябре 1707 г. Учащиеся набирались преимущественно из семинаристов, знавших латинский язык и имевших некоторую общеобразовательную и естественнонаучную подготовку. Все обучавшиеся делились на учеников и подлекарей. Точного срока обучения первоначально установлено не было; учение продолжалось 5, 7 лет и более. Обучение в русских госпитальных школах носило практический характер, проводилось в значительной мере у постели больного. Ученики и подлекари выполняли все предписания госпитальных докторов, самостоятельно проводили малые операции, несли дежурства, присутствовали на обходах. Преподавание десмургии («учреждения бандажей») осуществлялось как на фантомах, так и на больных. Операции предшествовали беседа о данном заболевании и установление показаний к ней. В анатомическом театре операции производились в виде «репетиций для натверждения учащихся», старшие ученики и подлекари оперировали лежавших в госпитале больных. Изучение «аптекарской науки», состоявшей из элементов ботаники и фармакогнозии с фармацией, проводилось на аптекарских огородах, где учащиеся знакомились с лекарственными травами и участвовали в приготовлении лекарств. Претворение в жизнь стремления дать будущим лекарям всестороннее образование встречало, однако, значительные препятствия. Ассигнования, выделявшиеся на содержание госпиталя и школы, не обеспечивали потребностей учебного процесса: в школе практически не было учебников, учащиеся пользовались так называемыми лекционами — конспектами лекций и бесед с преподавателями, которые переходили от одного поколения учащихся к другому, трупы «подлых людей» для вскрытий доставлялись нерегулярно, а при открытии школы даже не было ни одного скелета (Д.М. Российский считает, что преподавание анатомии вообще проводилось главным образом по рисункам). Только в 40-х гг. обучение в школе стало улучшаться: началось преподавание внутренних болезней с курацией больных и судебной М., появились учебники, для преподавания латинского языка был приглашен «студиоз, обязанный заниматься с учениками вседневно два часа», были введены экзамены. По образцу московской в 1733 г. открылись еще три госпитальных школы — в Петербурге при сухопутном и адмиралтейском госпиталях и в Кронштадте при адмиралтейском госпитале, в 1758 г. — при Колывано-Воскресенском горнозаводском госпитале в Барнауле. Став во главе медицинской канцелярии (1753), П.З. Кондоиди провел реформу медицинского образования: были введены семилетнее обучение, экзаменационная система, клиническое изучение больных (составление истории болезни и пр.); в программу преподавания вошли физиология, женские и детские болезни, акушерство. Стремясь к тому, чтобы преподавание М. в русских школах не отставало от европейских унтов, П.З. Кондоиди в 1761 г. добился направления для усовершенствования в университеты Европы десяти лучших выпускников, которые вскоре защитили докторские диссертации и, возвратившись в Россию, стали воспитателями новых поколений отечественных врачей. С именем П.З. Кондоиди связаны также создание в 1756 г. первой русской медицинской библиотеки, организация школ повивального искусства, по его настоянию из-за границы начали выписывать учебные пособия и иностранные медицинские журналы.
Особое значение для развития медицины и медицинского образования в России имело открытие Московского университета (1755), где уже первым уставом была предусмотрена организация медицинского факультета в составе трех кафедр: химии, натуральной истории и анатомии. Занятия на медицинском факультете начались в 1764 г. лекциями по анатомии, хирургии и «бабичьему искусству» профессора И. Эразмуса. С 1765 г. первый русский профессор-медик Московского университета С.Г. Зыбелин начал чтение курса теоретической медицины: «сначала физиологию с принадлежащей к ней семиологией и диететикой, потом патологию со своей семиологией и, наконец, общую терапию». Преподавание на медицинском факультете университета на первых порах было не на должной высоте: науки мало дифференцированы, объемы курсов невелики, не было клинического преподавания, не хватало профессоров. К концу 18 в. (1797) при Московском военном госпитале была открыта постоянная клиническая палата; тем самым клиническое преподавание было введено и в университете. Московский университет стал крупнейшим центром развития медицинской науки и медицинского образования. В 1791 г. Московскому университету было дано право присваивать степень доктора медицины. Впервые эту степень присвоили в 1794 г. Ф.И. Барсуку-Моисееву.
В 1786 г. была проведена новая реформа медицинского образования. Госпитальные (медико-хирургические) школы были отделены от госпиталей, при которых они состояли, и преобразованы в самостоятельные учреждения — медико-хирургические училища. В этих училищах теоретическое обучение было усилено за счет практического, преобладавшего в госпитальных школах. Вместе с тем основные требования (совмещать в процессе обучения объяснения с демонстрацией, теорию с практикой) соблюдались в медико-хирургических училищах неукоснительно. За время своего существования госпитальные школы и медико-хирургические училища подготовили свыше 1000 русских врачей, многие из которых стали видными деятелями отечественной науки — А.Г. Бахерахт, И.Ф. Буш, П.А. Загорский, Н.К. Карпинский, Е.О. Мухин, Д.С. Самойлович. М.М. Тереховский, А.М. Шумлянский и др.
В 1798 г. медико-хирургические училища в Петербурге и Москве были преобразованы в медико-хирургические академии — высшие военно-медицинские учебные заведения. Московская медико-хирургическая академия просуществовала недолго, Петербургская стала образцовым высшим учебным заведением, являвшимся в 19 в. наряду с Московским университетом основным центром подготовки высококвалифицированных врачебных кадров и основной базой русской медицинской науки. С каждым годом число русских лекарей, получивших образование на родине, и число русских докторов медицины неуклонно росло. В начале 19 в. (1809) во впервые составленном «Российском медицинском списке» было уже поименовано 2508 врачей. По другим (неполным) данным, в 1802 г. в России работало 1519 врачей, главным образом отечественных. К концу 18 в. число докторов М. превышало 300.
В 18 в. произошли принципиальные изменения в организации медицинской помощи населению, управлении медико-санитарным делом, в аптечном деле. В 1707 г. наряду с Аптекарским приказом была создана Канцелярия главной аптеки. Аптекарскому приказу постепенно передали управление всеми без исключения вопросами медико-санитарного характера, в т.ч. находившееся ранее в ведении Посольского приказа руководство аптечным делом. Для руководства медицинским делом в столицах были учреждены должности штадт-физиков с большими полномочиями, вплоть до права входить в Сенат с предложениями. С 1716 г. ввели должность архиатра, на которого возлагалось руководство Аптекарским приказом и Канцелярией главной аптеки. В 1721 г. был создан единый орган управления медико-санитарным делом — Медицинская канцелярия. Одной из важнейших функций Медицинской канцелярии было определение прав на врачебную практику. В соответствии с указом 1721 г. не позволялось никакому доктору или лекарю проводить вольную практику, «не подвергнувшись испытанию в медицинских науках от Медицинской канцелярии». При этом выпускники русских медицинских учебных заведений после получения аттестата об окончании дополнительным испытаниям не подвергались. В 1763 г. должность архиатра была упразднена, а Медицинская канцелярия преобразована в Медицинскую коллегию, во главе с президентом — не врачом. Медицинская коллегия была разделена на два департамента. Присутствие коллегии состояло из 6 членов медицинского звания под председательством президента. Коллегия имела отделение в Москве — «контору» в составе 2 чиновников во главе со штадт-физиком. Указом Анны Иоанновны (1737) магистратам ряда городов, прежде всего близлежавших к столицам (Псков, Тверь, Новгород, Ярославль и др.), было предписано за счет средств городской казны содержать городовых врачей; к 1756 г. городовые врачи имелись в 26 городах, вместо 56 определенных по указу. В 1775 г. произошла реформа гражданского управления, были созданы новые губернские учреждения, в т.ч. приказы общественного призрения, которым вменялось в обязанность устраивать сиротские дома, больницы, аптеки и богадельни. За время своего существования (1775—1865) приказы открыли 519 больниц на 17,4 тыс. коек. Одновременно с приказами были учреждены должности уездных лекарей, а с 1797 г. — врачебные управы. Т.о., во второй половине 18 в. началась децентрализация управления медико-санитарным делом. Попытка возложить строительство гражданских больниц на церковь (Духовный регламент 1721 г. предписывал монастырям «построити странноприимницы и лазареты и в них собрать престарелых и здравия лишенных») не дала ощутимых результатов. Хотя указом 1722 г. и повелевалось «старых отсылать для определения в гофшпиталь в Синод», кроме построенных до этого времени 10 госпиталей и около 500 лазаретов новых лечебных учреждений при жизни Петра I не открывалось. Некоторое оживление больничного строительства началось лишь во второй половине 18 в. В 1751 г. был открыт госпиталь в Сибири — на рудниках в Колывани, в 1788 г. — в Елизаветграде, в 1763 и 1776 гг. — две крупные больницы в Москве — Павловская (ныне Городская клиническая больница № 4) и Старо-Екатерининская (ныне Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского): в 1779 г. — в Петербурге — Обуховская больница (на местах строились больницы приказов общественного призрения). К 18 в. относится и начало строительства в России специальных учреждений для призрения психически больных. Еще по указу, изданному Петром I (1722), таких больных предлагалось помещать не в монастыри, а в специальные госпитали. Первые психиатрические больницы и отделения были открыты в 1776—1779 гг. в Новгороде, Риге, Москве и Петербурге. На базе этих больниц зарождалась в первой половине 19 в. отечественная психиатрия. Передовым для своего времени было установленное Генеральным регламентом о госпиталях (1735) требование обязательного вскрытия умерших в госпиталях.
В 1701 г. в России была введена так называемая аптечная монополия — за изготовлением и торговлей лекарствами устанавливался государственный контроль, торговля лекарствами в «зелейных рядах», лавках знахарей и других местах запрещалась. Вместе с тем наряду с организацией государственных аптек разрешалось открытие под наблюдением Аптекарского приказа частных («вольных») аптек. В 1789 г. был принят единый аптекарский устав и введена единая аптекарская такса, ограничившая возможность владельцев частных аптек произвольно устанавливать цены на лекарства. К концу 18 в. в России имелось около 100 аптек. Стремясь уменьшить закупки лекарственных средств за границей, Медицинская канцелярия выступила с предложением начать изучение отечественных лекарственных растений. Во все губернии был разослан указ об оказании содействия этому начинанию. Однако настоящее изучение лекарственных ресурсов началось позже экспедициями Академии наук. В частности, большой материал о лекарственных ресурсах был собран И.И. Лепехиным, С.Г. Гмелиным и Н.Я. Озерецковским во время академической экспедиции 1768—1774 гг. Важным начинанием периода петровских реформ было открытие в Петербурге мастерской по ремонту и изготовлению хирургических инструментов, положившей начало отечественной медико-инструментальной промышленности. Впервые были предприняты меры по изысканию и изучению источников минеральных вод. Так, в 1717 г. «на Терек для исследования тамошних теплых вод» был командирован московский штадт-физик Г. Шобер (1670—1739); ему принадлежит первое описание кислых вод на Кавказе. В 1718 г. были описаны марциальные (железистые) воды в Кончезерске Олонецкого края, а в 1719 г. царским указом утверждены «дохтурские правила» и пользовании ими. Дальнейшее изучение бальнеологических ресурсов страны осуществлялось уже в начале 19 в.
Академия наук до открытия Московского университета фактически была единственной научной организацией в стране. Первым президентом Академии наук (1725—1733) стал бывший лейб-медик Петра I, один из авторов проекта о ее создании Л.Л. Блюментрост. Петербургская академия наук первоначально состояла из трех отделений — «классов», из которых второй класс («физический») включал и М., точнее анатомию с физиологией и химию. На первых порах в состав Академии входили приглашенные из-за границы академики, среди которых были крупные ученые. М. была представлена Д. Бернулли (1700—1782). И. Вейтбрехтом (1702—1747), И. Дювернуа (1691—1759) и др. Вскоре появились талантливые русские академики — естествоиспытатели и врачи, прежде всего М.В. Ломоносов, а за ним С.П. Крашенинников (1711—1755), С.Я. Румовский (1734—1812), А.П. Протасов (1724—1796), В.Ф. Зуев (1754—1794), И.И. Лепехин (1740—1802) и др. Из Академии наук в первые же годы ее существования вышел ряд оригинальных работ, главным образом по анатомии и физиологии. С конца 60-х гг. в Академии работал один из основоположников эмбриологии К.Ф. Вольф. Исключительное значение для развития медицины имели работы М.В. Ломоносова. В его произведениях есть интересные мысли по вопросам физиологии, в частности органов чувств, микроскопии и электротерапии, гигиены, действия климата и питания на здоровье населения. Чрезвычайно большое внимание М.В. Ломоносов уделял насущным для той эпохи вопросам медицинского дела, и в частности вопросам снижения смертности, увеличения продолжительности жизни и естественного прироста населения. «Великое множество людей, — писал он, — впадает в разные болезни, о излечении коих весьма мало есть учреждений. Требуется по всем городам довольное число докторов, лекарей и аптек, удовольствованных лекарствами, чего нет и сотой доли... От такого непризрения многие, коим бы ожить, умирают». М.В. Ломоносов резко осуждал многие обычаи и церковные обряды, приносящие вред здоровью, настаивал на издании доступной литературы для повивальных бабок, указывал пути увеличения числа подготовляемых врачей и т.п. Он тесно связывал М. с естествознанием, в частности с физикой и химией; его труды, лекции по физике и химии, слушателями которых были и врачи, воспитывали материалистическое мировоззрение, М.В. Ломоносов подчеркивал опытный характер «натуральной науки», к которой принадлежит и М., настаивал на необходимости проверять все теории и рассуждения опытом.
Вслед за М.В. Ломоносовым передовые русские врачи настойчиво подчеркивали значение опыта, наблюдения, изучения природы как первоосновы науки. Не отказываясь от термина «душа», русские врачи 18 в. отводили ей гораздо более скромное место, чем это делали их современники в Западной Европе. Они утверждали, что человеческое тело повинуется «уставам естества», а не велениям «души». Даже сновидения и психические явления русские врачи стремились объяснить «из естественных оснований». Вслед за М.В. Ломоносовым они подчеркивали связь М. с естествознанием в целом, в частности с физикой и химией. Большое внимание уделялось анатомии. Много сделал для развития отечественной анатомии ученик М.В. Ломоносова А.П. Протасов. Талантливый врач К.И. Щепин (родился в 1728 г.) впервые начал преподавание хирургии на русском языке. Хирургию он тесно связывал с анатомией и физиологией — подход, который в 19 в. был развит Н.И. Пироговым. Большой интерес представляла диссертация А.М. Шумлянского «О строении почек» (1782) — по существу первая работа по гистологии почек. Лишь в 19 в. исследования А.М. Шумлянского были повторены другими учеными, и описанные им элементы нефрона получили названия боуменова капсула и петля Генле. Именно в трудах анатомов и хирургов 18 в. следует искать истоки крупных отечественных анатомических и «анатомо-хирургических» школ первой половины 19в. — П.А. Загорского, И.Ф. Буша, Е.О. Мухина, И.В. Буяльского и др. Одним из существенных препятствий на пути прироста населения наряду с эпидемиями и войнами были мертворождаемость и высокая детская смертность. Поэтому для России первостепенное значение имели вопросы акушерства и гигиены раннего возраста. Много сделал для улучшения родовспоможения в России как педагог и врач Н.М. Амбодик-Максимович. Задаче подготовки образованных акушерок посвящен основной труд Н.М. Амбодик-Максимовича «Искусство повивания, или Наука о бабьичьем деле» (1784—1786), состоящий из 6 частей. Этот труд содержит обширные сведения по анатомии и физиологии женской половой сферы, об акушерских пособиях и операциях, о послеродовых болезнях и, наконец, об уходе за младенцами и о болезнях детей раннего возраста. Н.М. Амбодик-Максимович считал необходимым гармоническое сочетание физического и нравственного воспитания детей. Он настаивал на необходимости грудного вскармливания, свободы движений младенцев, рекомендовал «заблаговременно приучать детей к холоду и ко всем воздушным переменам» и часто выносить их на воздух, при обучении детей строго учитывать их возрастные особенности. Эти же принципы ухода и воспитания детей развивал и профессор Московского университета С.Г. Зыбелин.
В 18 в. появились первые отечественные исследования социально-гигиенического характера. Выпускник Московской госпитальной школы И.Л. Данилевский защитил диссертацию на степень доктора медицины «Государственная власть — самый лучший врач или О наилучшем медицинском управлении», в которой автор последовательно проводит мысль, что государство обязано заботиться о здоровье населения. Он указывает конкретные общегосударственные социально-гигиенические мероприятия, при проведении которых, по его мнению, «управители» могли бы добиться оздоровления народа, повышения рождаемости, снижения заболеваемости и смертности населения. Он призывает прекратить войны, чтобы молодые люди оставались дома, были здоровыми, вовремя женились, и чтобы росло количество браков и приумножалось потомство. Забота о здоровье подрастающего поколения — важнейшая задача государства, которое обязано заниматься вопросами организации родовспоможения, подготовкой квалифицированных акушерок, охраной здоровья детей. И.Л. Данилевский считал, что для сохранения здоровья молодежи необходимо, чтобы умственные занятия гармонически сочетались с физическим воспитанием и закаливанием, писал о необходимости повышения общей и санитарной культуры населения, отводил важную роль в борьбе с болезнями санитарному просвещению народа, предложил целую систему государственных санитарно-гигиенических мер в целях уничтожения тягчайших заболеваний. Труд И.Л. Данилевского получил широкую известность в Западной Европе; после его опубликования в Геттингене в 1760 г. он вошел в сборник «Delecta opuscula», изданный самым выдающимся представителем социал-гигиенической мысли 18 в. И. Франком.
Первостепенной задачей русской М. 18 в. была борьба с эпидемиями оспы, чумы и др. болезней, уносивших тысячи жизней. Особенно опустошительными были эпидемии 1738—1739 и 1770—1772 гг. Распространение оспы носило эпидемический характер на протяжении всего 18 в. Чаще всего она поражала детей, отчего и причислялась порой к детским болезням. В середине 18 в. в России для борьбы с оспой использовалась вариоляция, значительно уменьшавшая смертность от нее. Для проведения вариоляции были организованы специальные «оспенные дома». Оспопрививание в виде вариоляции производилось даже в отдаленных городах Сибири. Было издано много книг и статей, посвященных оспе и оспопрививанию. С.Г. Зыбелин в блестящей полемической речи «Слово о пользе прививной оспы и о преимуществе оной перед естественною с моральными и физическими возражениями против неправомыслящих» (1768) ярко показал преимущества оспопрививания и ошибочность взглядов его противников.
Эпидемии чумы, опустошившие ряд городов, вместе с тем привели к развитию знаний о природе болезни и мерах борьбы с ней. Во время эпидемии чумы в Москве в 1770—1772 гг. врачи-ученые А.Ф. Шафонский, К.О. Ягельский, П.И. Погорецкий, С.Г. Зыбелин, Д.С. Самойлович не только энергично боролись с болезнью, но и обогатили науку трудами, касающимися вопросов возникновения и распространения чумы и других инфекционных болезней. Большой интерес представляет «Описание моровой язвы, бывшей в столичном городе Москве с 1770 по 1772 г. с приложением всех для прекращения оной установленных учреждений» (1775) под редакцией А.Ф. Шафонского, состоящее из теоретического рассуждения о природе чумы и описания истории московской эпидемии и всех принятых против нее мер.
Наблюдение и критическое отношение к умозрительным теориям определили правильную позицию передовых русских врачей в споре между сторонниками контагиозной и миазматической теорий распространения эпидемий. По миазматической теории, заражение чумой неизбежно, поэтому предупредительные меры бесполезны. Сторонники контагиозной теории объясняли происхождение болезни общением здорового человека с больным или с предметами, которыми он пользовался и которые вследствие этого несут заразное начало. Взгляды сторонников контагиозной теории были, несомненно, ближе к истинному пониманию механизма заражения и, главное, позволяли намечать и осуществлять действенную систему мероприятий по борьбе с эпидемиями. Одним из наиболее убежденных и горячих сторонников и проповедников контагиозной теории был Д.С. Самойлович. Он утверждал, что заражение чумой происходит только при непосредственном соприкосновении. «Болезнь сия нигде и никогда инако не заражает, как посредством токмо соприкосновения.... Чтобы не быть пораженным чумой, нужно полностью избежать прикосновения к зачумленным вещам. В этом — весь секрет», — писал он. Д.С. Самойлович проводил экспериментальные исследования, наблюдая под микроскопом содержимое чумных бубонов, предлагал (по образцу вариоляции) использовать в качестве прививочного материала для прививок от чумы медперсонала и других лиц, общавшихся с больными чумой, гной из созревшего размягченного бубона, содержащий, по его мнению, ослабленный «язвенный яд». Прогрессивными были и позиции Д.С. Самойловича в отношении характера проводимых при чуме противоэпидемических мер. Так, он осуждал жестокие приемы борьбы с эпидемией, когда «подозрительные» кварталы выжигались, целые города и значительные по размеру и населенности территории длительно изолировались от внешнего мира, что обрекало жителей на голод и лишения. Он настойчиво искал эффективных средств дезинфекции при чуме, проверял на себе защитное действие различных дезинфицирующих порошков и окуривания одежды, в результате чего несколько раз получал сильные ожоги. Свои взгляды Д.С. Самойлович изложил в ряде сочинений, изданных в России, во Франции. Международным признанием научных заслуг Д.С. Самойловича явилось избрание его членом 12 зарубежных академий.
Важная роль отводилась проблемам гигиены. Интерес к гигиене основывался, во-первых, на правильном представлении, что в окружающей среде существуют материальные причины болезней; во-вторых, — на понимании основной задачи М. — сохранять здоровье, предупреждать болезни.
Считалось, что для сохранения здоровья очень важна диететика. Разделяя широко распространенное в М. 18 в. представление о том, что здоровье зависит от шести «неестественных вещей» — воздуха, пищи и питья, движения и покоя, бдения и сна, разных «испражнений» (т.е. мочи, пота и «неприметной испарины») и душевных страстей, — русские врачи основное внимание уделяли факторам окружающей среды. С географическими и климатическими условиями пыталась связать распространение болезней. Правильное понимание санитарного значения климатических условий привело русских врачей 18 в. к санитарному изучению населенных пунктов и местностей, нашедшему свое отражение в серии медико-топографических описаний. Еще в начале 18 в. был издан ряд законов о санитарном надзоре за пищевыми продуктами, их продажей и хранением. В конце века появляются попытки определения питательной ценности отдельных пищевых продуктов. В своих гигиенических рекомендациях многие русские врачи 18 в. исходили из идеи философов-просветителей о спасительной роли природы.
Принцип «согласия с природой», «следования природе» нашел наибольшее отражение в гигиене. «Чем больше человек повинуется природе и ее законам, тем долее живет», — провозглашалось в большинстве сочинений по гигиене. И если в клинике такая позиция ограничивала в известной степени активность врачей, то в гигиене она сыграла положительную роль: позволила рассматривать гигиену в тесной связи с физиологией, стремиться выводить все гигиенические рекомендации из «природы», т.е. физиологии человека. Эта тенденция ярко видна в речи С.Г. Зыбелина «Слово о сложениях тела человеческого и о способах, как оные предохранять от болезней» (1777), где излагаются основные правила «диететики» в широком смысле слова (говорится о питании, образе жизни, деятельности, развлечениях и т.д., исходя из «сложения тела», т.е. из физиологических особенностей и потребностей организма).
Передовые русские врачи видели в болезни нарушение функции, вызванное материальными причинами. Отсюда внимание к патологической анатомии, понимание роли патологоанатомических вскрытий звучит во многих сочинениях русских врачей той эпохи. Во многих произведениях русской медицинской литературы 18 в. подчеркивается необходимость внимательного клинического наблюдения болезни. Через произведения русских врачей красной нитью проходит мысль об индивидуальных особенностях каждого больного, о том, что «часто то вредно сему, что полезно другому» и что поэтому врач должен учитывать «природу каждого человека особо». Все эти положения в первой четверти 19 в. были блестяще развиты М.Я. Мудровым. По ряду литературных и архивных источников можно судить о попытках физиологических, фармакологических и эпидемиологических экспериментов, предпринятых различными русскими врачами 18 в.
В 18 в. широко изучались лекарственные растения. Русскими врачами руководило стремление избавить страну от покупки дорогих иностранных лечебных средств и заменить их отечественными. Это послужило темой специальной речи И.И. Лепехина (дважды напечатанной) «Размышления о нужде испытывать лекарственную силу собственных произрастаний» (1783). В записках И.И. Лепехина о его путешествии, в Словаре Российской академии, а также в трудах ряда русских врачей, в частности в трудах Н.М. Амбодика-Максимовича «Врачебное веществословие» (1783—1789) и «Первоначальные основания ботаники» (1796), дано тщательное описание целебных свойств отечественных растений. Характерно внимательное изучение лекарственных растений, «простым народом в болезнях употребляемых», признание того, что «врачебная наука (как писал академик Н.Я. Озерецковский) ввела в употребление множество таких вещей, которых пользу узнали прежде всех простые люди». В этом уважении к народной мудрости сказался демократизм, свойственный большинству русских врачей.
Прочно установившееся со времен средневековья разделение М. на внутреннюю и наружную и соответственно представителей медицинской профессии на врачей и лекарей, или хирургов, в известной мере существовало и в России. Оно было занесено в 16—17 вв. врачами-иностранцами. Но это разделение в России не было таким резким и антагонистическим, как в странах Западной Европы. Уже в первой госпитальной школе будущих хирургов учили лечению не только наружных, но и внутренних болезней. Характерно, что в начавшем выходить в 1792 г. по инициативе петербургского профессора патологии и терапии Ф.К. Удена первом русском медицинском журнале «Санкт-Петербургские врачебные ведомости» сразу же была помещена статья, направленная против выделения из М. хирургии.
Медицина в России в первой половине 19 в. В конце 18 в. — начале 19 в. в России появились признаки глубокого кризиса феодально-крепостнического строя. Быстрыми темпами развивались мануфактуры и фабрики, увеличивалась численность наемных рабочих. В 1858 г. на предприятиях обрабатывающей промышленности насчитывалось свыше 573 тыс. работников, из них наемных 462 тыс. В 1828 г. в столицах и в крупных городах были учреждены Мануфактурные советы. Медленно, но неуклонно шел процесс отрыва населения от земледелия и сосредоточения его в городах. В 1795 г. городские жители составляли 4,2% населения, в 1857 г. — 6,4%. Однако в целом Россия оставалась аграрной страной. Крепостное право тормозило развитие экономики и это было столь очевидно, что уже Екатерина II в своих интимных «Записках» писала, что «рабство есть политическая ошибка, которая убивает соревнование, промышленность, искусство, честь и благоденствие», и объявляла себя сторонницей «просвещенного абсолютизма» во главе с «коронованным философом», являющимся «первым слугой народа». Глубокий кризис способствовал пробуждению критического настроения в обществе, и в первой четверти 19 в. политические веяния быстро менялись. Первое десятилетие прошло под знаком ожидания радикальных политических преобразований, вплоть до «дарования конституции» и отмены крепостного права. Александр I окружил себя образованными, хотя и политически непоследовательными людьми. Однако проекты радикальных политических реформ остались неосуществленными. Вместо «дарования свобод» началась реорганизация государственного управления: были созданы министерства и Комитет министров (1802), Государственный Совет (1810). Управление медико-санитарным делом рассредоточивалось. В составе Министерства полиции (с 1819 г. объединено с Министерством внутренних дел) в 1803 г. вместо упраздненной Медицинской коллегии по образцу Франции были созданы медицинский департамент, функции которого сводились к правительственному врачебному и санитарно-полицейскому контролю, и медицинский совет с правами совещательного научного органа. Подготовка врачей возлагалась на Министерство народного просвещения, обеспечение медпомощью различных слоев населения — на разные ведомства, координация деятельности которых законодательно не предусматривалась. Т.о., реформа государственного управления завершила процесс децентрализации управления медико-санитарным делом.
Вместе с тем «либеральные веяния» первого десятилетия 19 в. имели позитивные последствия. В частности, предпринимались попытки законодательно решить вопрос обеспечения медпомощью рабочих отдельных отраслей промышленности. Так, например, Горное уложение (1806) предписывало учреждать как при казенных, так и при частных заводах госпитали. При каждом госпитале предлагалось содержать по крайней мере одного лекаря и нескольких лекарских учеников в зависимости от числа рабочих на заводе. В оснащение госпиталей входил набор хирургических инструментов. Лекарю вменялось в обязанность осматривать больных 2 раза в день. Однако эти требования и то частично выполнялись лишь на казенных заводах. В конце 50-х гг. при казенных горных предприятиях имелось 13 больниц, в которых работало 18 врачей. Надежды же на то, что «заводчики в интересах человеколюбия и своих собственных пойдут навстречу попечениям государственной власти» полностью провалились: в 30)—40-х гг. только при нескольких крупных частных заводах были построены больницы, которые содержались главным образом на средства рабочих.
Расширялась сеть общеобразовательных учебных заведений, была создана система преемственности начального, среднего и высшего образования, открывались новые университеты. Расширилась и база для подготовки врачебных кадров: медицинские факультеты были открыты в Дерптском (1802), Виленском (1803), Харьковском (1805), Казанском (1814), Киевском (1841) университетах. Повышению уровня подготовки врачей во многом способствовало введение в начале 19 в. преподавания философии и естественных наук в гимназиях и университетах; к преподаванию в университетах допускались только лица, защитившие докторскую или магистерскую диссертацию (1819). Большую роль в развитии медицинской науки и высшего медицинского образования в России сыграла организация в 1828 г. по предложению академика Г.Ф. Паррота (1767—1852) «профессорского института» при Дерптском университете, в котором прошли подготовку к профессуре многие видные русские ученые-медики, в т.ч. Н.И. Пирогов (1810—1881), А.М. Филомафитский (1807—1849), Ф.И. Иноземцев (1802—1869), Г.И. Сокольский (1807—1886) и др. Увеличение числа медицинских факультетов и расширение приема на них учащихся способствовало росту врачебных кадров в стране. К 1846 г. в России было около 8,1 тыс. врачей, из которых, по данным Я.В. Ханыкова (1851), не менее трети служило в армии и на флоте.
Вторжение в Россию (600-тысячной армии Наполеона вызвало небывалый патриотический подъем. Героически сражалась армия, развернулась партизанская война. Профессора и преподаватели университетов, рядовые русские врачи принимали деятельное участие в защите Родины. «Большая часть воспитанников Московского университета, — говорил декан медицинского факультета Московского университета М.Я. Мудров (1776—1831), — оставя мирные науки... подняли оружие во спасение отечества... Наш же медицинский факультет совершенно закрылся за лишением профессоров и студентов, или лучше покрыл себя славой и доблестями. Одни пошли на поле брани, другие поехали сопровождать раненых, все оставили университет, рассеялись по полям и госпиталям и венчали честью место их образования». На войне погиб талантливый профессор Московского университета И.Е. Грузинов (1781—1813). Огромную работу по организации медпомощи и эвакуации раненых, созданию госпиталей и пр. проделали русские военные медики — Я.В. Виллие (1768—1854) и др., непосредственно на полях сражений работали И.Е. Дядьковский (1784—1841), X.И. Лодер (1753—1832) и др.
Переход к реакции принял законченное выражение лишь после окончания Отечественной войны 1812 г. Однако Александр I уже в преддверии войны, по словам Г.Р. Державина, «разогнал якобинскую шайку дерзнувших к изумлению и ужасу россиян понуждать государя освободить от рабства холопов и унизить дворянство», причем «шайка» не слишком упорствовала в своих либеральных заблуждениях: даже «рьяные конституционалисты», как В.Н. Карамзин (1773—1842), А.Н. Голицын (1773—1844), М.Л. Магницкий (1778—1855), С.С. Уваров (1786—1855) сразу переметнулись в лагерь реакции и с усердием ренегатов громили просвещение, насаждая в университетах «дух самодержавия, православия и народности». Вскоре после войны начался расцвет официального «просветительского» обскурантизма. Созданное в 1817 г. Министерство духовных дел и народного просвещения (названное Н.М. Карамзиным «министерством затмения») под руководством А.Н. Голицына («дабы христианское благочестие было всегда основанием истинного просвещения»), начало поход против просвещения, критической мысли и свободного исследования. В чем заключалось «истинное просвещение» не замедлили на деле показать М.Л. Магницкий, С.С. Уваров в союзе с такими мракобесами, как Д.П. Рунич, Корнеев и др., учинившие под видом правительственной ревизии подлинный погром в Казанском, Харьковском и Петербургском университетах. Так, М.Л. Магницкий для «обуздания гибельного материализма» запретил в Казанском университете анатомирование, приказал отпеть и похоронить по церковному обряду препараты анатомического музея. В составленной М.Л. Магницким инструкции медицинскому факультету говорилось: «Профессоры сего факультета должны отвратить то ослепление, которому многие из знатнейших медиков подверглись, от удивления превосходству органов и законов животного тела нашего, впадая в гибельный материализм от того, что наиболее премудрость творца открывает. Студенты должны быть предостережены на счет сего ужасного заблуждения. Им должно внушено быть, что святое писание нераздельно полагает искусство врачевания с благочестием».
Однако реакции не удалось подавить свободомыслия. Выразителями наиболее передовых идей в первой четверти 19 в. были декабристы. Помимо основных политических целей, они предусматривали и ряд преобразований в области охраны здоровья населения. например, предлагалось иметь в каждой волости разъездного врача, больницу, воспитательный дом с отделением для рожениц и богадельню для престарелых и калек. Эти учреждения должны были обслуживать крестьян бесплатно, за общественный счет. В среде декабристов было три врача (А.П. Богородицкий, Ф.Б. Вольф и Н.Г. Смирнов), однако уставом Союза благоденствия каждому его члену вменялись в обязанность изучение М., пропаганда санитарно-гигиенических знаний. В годы каторги, ссылки и поселения в Сибири, на Урале, в Казахстане декабристы развернули обширную практическую медицинскую деятельность.
В естественных науках предпринимались первые попытки философских обобщений и осмысления явлений природы. Интерес передовых русских естествоиспытателей к теории познания во многом определялся борьбой с эмпиризмом. В противовес эмпиризму создавались различные натурфилософские системы, главным образом на основе философских концепций Ф. Шеллинга (1775—1854). Шеллингианские тенденции в русском естествознании проявились, в частности, в творчестве Д.М. Велланского. Считая основным назначением естествознания «истинное познание натуры», Д.М. Велланский выступал против косности, рутины и грубого эмпиризма, в защиту высокого авторитета науки, развивал представления о единстве и взаимосвязи явлений природы, органического и неорганического мира. Вместе с тем, будучи убежденным сторонником философии Шеллинга, он утверждал, что основным методом познания служит «внутреннее убеждение духа», что опыт и эксперимент отражают лишь внешнее в явлении, но не в состоянии выявить его сущность, поскольку природа — «проявление абсолютного универса», в ее основе лежит «невидимая и неощутительная сущность». Столь же умозрительно Д.М. Велланский подходил и к пониманию болезни, придавая большое значение явлениям магнетизма и теории полярности.
Передовые естествоиспытатели выступали с критикой и эмпиризма, и умозрительных систем, отстаивая и развивая материалистические традиции русского естествознания. Эти тенденции составили основу творчества И.Е. Дядьковского — глубокого мыслителя-материалиста и самобытного врача. В основе философских взглядов И.Е. Дядьковского лежало признание реальности мира. Опыт и эксперимент он считал основой познания, развивал принцип единства эмпирического и рационального в познании, отрицал существование «жизненной силы» как особого начала, определяющего качественное различие живой и неживой природы, указывая, что только под влиянием сил самой природы возникают разнообразные процессы, которые в общем можно разделить на процессы созидания и разрушения, что различие природных тел связано с различием количественных и качественных свойств самой материи. Метод исследования И.Е. Дядьковского основывался на идее целостного подхода к явлениям природы. Исследуя организм человека, он отмечал, что взаимное и непрерывное действие сил человеческого тела «(внешних на внутренние и внутренних на внешние), составляет его жизнь». Признавая ведущую роль нервной системы, он вместе с тем подчеркивал зависимость ее от состояния других систем и органов. Им высказана мысль, что болезнь есть особая форма жизни. Глубоко научно и диалектично выдвинутое И.Е. Дядьковским положение о необходимости двояко понимать каждое явление. Распространяя это положение на терапию, он утверждал, что не существует абсолютно целительного средства, что ядовитые вещества при умелом употреблении могут спасти жизнь человека. И.Е. Дядьковский выступал как убежденный сторонник эволюционных идей. За «кощунственное» естественнонаучное объяснение происхождения «нетленных мощей» он был отстранен от преподавания в университете (1836).
Прямыми последователями его физиологических и общепатологических воззрений были физиолог И.Т. Глебов (1806—1884) и терапевт К.В. Лебедев (1799—1884), развившие ряд положений, выдвинутых И.Е. Дядьковским. Учеником и последователем И.Е. Дядьковского был К.Ф. Рулье (1814—1858) — биолог-эволюционист додарвинского периода.
Естественнонаучный материализм, базирующийся на представлениях о единстве организма со средой его обитания, характерен для передовых деятелей русской М. первой трети 19 в. Эти воззрения явились основой для понимания первостепенного значения предупреждения болезней, идей профилактики. Важную роль для развития русской клинической М. сыграло становление анатомии как базы для клинической теории и практики и зарождение топографической анатомии как базы для клинической хирургии. Этим была подготовлена почва для успешной деятельности Н.И. Пирогова.
В первой четверти 19 в. начала развиваться русская медицинская периодическая печать. Так, если в конце 18 в. существовало лишь несколько медицинских периодических изданий, выходивших ничтожными тиражами, то в первой четверти 19 в. не только увеличивается их число, но и растет их научный уровень. С 1808 г. выходил «Медико-физический журнал». В 1811—1816 гг. Петербургская медико-хирургическая академия издавала «Всеобщий журнал врачебной науки». В 1828—1832 гг. профессор химии и фармакологии Московского университета А.А. Иовский (1796—1857) издавал «Вестник естественных наук и медицины». Важную роль для развития отечественной М. сыграл «Военно-медицинский журнал», начавший выходить с 1823 г. Возникали научные медицинские общества: общество соревнования врачебных и физических наук при Московском университете (1804; с 1845 г. — Физико-медицинское общество при Московском университете), Виленское медицинское общество, общества практических (немецких) врачей в Москве (1819), Петербурге (1819) и Риге (1823), Варшавское медицинское общество (1821), С.-Петербургское фармацевтическое общество.
Характерной чертой отечественной науки в 19 в. было формирование первых научных школ. В области М. первой четверти 19 в. основными центрами формирования научных школ были Петербургская медико-хирургическая академия и медицинский факультет Московского университета. Причем каждому из этих центров была свойственна специфика научных интересов. Так, в Медико-хирургической академии получили преимущественное развитие хирургия, анатомия, топографическая анатомия. Профессора Московского университета разрабатывали преимущественно проблемы общей патологии, терапии, физиологии.
Развитию отечественной анатомии во многом способствовала деятельность профессора Петербургской Медико-хирургической академии П.А. Загорского (1764—1846). Он издал первый в России оригинальный учебник анатомии (1802), занимался разработкой русской анатомической номенклатуры, по его инициативе в Медико-хирургической академии был построен анатомический театр и создан анатомический музей. П.А. Загорский изучал уродства органов и причины их возникновения, занимался сравнительной анатомией, описал ряд анатомических структур. Во взглядах на происхождение человека был близок к эволюционной теории. Одним из первых обосновал положение о взаимосвязи между строением и функцией органа. Многие последователи П.А. Загорского были видными учеными и педагогами: И.Д. Книгин (1773—1830) с 1811 г. преподавал анатомию в Харьковском университете. П.С. Корейша (1796—1830) с 1820 г. — в Казанском университете. Одновременно с П.А. Загорским в Медико-хирургической академии работал создатель первой отечественной хирургической школы, основоположник отечественной травматологии И.Ф. Буш (1771—1843). Одним из первых в мировой хирургии был сторонником немедленного вправления и иммобилизации переломов, изъяв пластыри, применявшиеся для их лечения с глубокой древности. К 1805 г. он написал первое отечественное оригинальное руководство по всем разделам хирургии. И.Ф. Буш был инициатором дифференциации хирургии как предмета преподавания: по его предложению в Медико-хирургической академии было выделено преподавание теоретической хирургии, или хирургической патологии, и оперативной хирургии. Среди учеников И.Ф. Буша целый ряд крупных хирургов: профессора X.X. Саломон (1796—1851), П.Н. Савенко (1795—1843), В.В. Пеликан (1790—1873), Г.Я. Высоцкий.
Наиболее выдающимся учеником И.Ф. Буша и П.А. Загорского был И.В. Буяльский (1789—1866) — один из родоначальников хирургической анатомии в России, автор первого отечественного атласа по оперативной хирургии «Анатомико-хирургические таблицы» (1828), приобретенного или переизданного едва ли не всеми европейскими университетами и получившего лестные отзывы К. Гуфеланда, Б. Лангенбека и других светил европейской М. Часть этого труда, посвященная операциям на мочевом пузыре при почечнокаменной болезни, вышедшая в 1852 г., была первым капитальным вкладом в отечественную урологию. Он был хирургом — новатором, первым в России выполнившим операцию по поводу сосудистой аневризмы, осуществившим резекцию верхней челюсти, пластические операции при атрезии прямой кишки, влагалищном свище и ряд других. Как управляющий Петербургским инструментальным хирургическим заводом много сделал для разработки отечественного медицинского инструментария и предложил оригинальные инструменты (акушерская лопаточка Буяльского и др.). И.В. Буяльский, по словам В.А. Оппеля (1923), был «авторитетом европейской величины» и по справедливости может считаться крупнейшей фигурой в отечественной хирургии до Н.И. Пирогова. О выдающемся мастерстве врача-диагноста и виртуозной оперативной технике И.В. Буяльского свидетельствуют многочисленные отзывы современников. Он был также одним из первых отечественных хирургов, применявших и пропагандировавших обезболивание при помощи эфира и хлороформа.
На медицинском факультете Московского университета анатомию, физиологию и судебную медицину с медицинской полицией, а также «науку о ядах» преподавал Е.О. Мухин (1766—1850) — автор курса анатомии в 7 частях (1813—1815), содержащего элементы топографической анатомии. Е.О. Мухин значительно усовершенствовал русскую анатомическую номенклатуру, написал ряд работ по борьбе с холерой, оспой и другими заразными болезнями. В диссертации «О стимулах, воздействующих на человеческое тело» (1800) он первым в отечественной М. изложил основные положения рефлекторной теории. По Е.О. Мухину вся деятельность (включая психическую) организма как единого целого стимулируется воздействиями на ц.н.с. — извне через органы чувств или исходящими от внутренних органов. Е.О. Мухин, И.Е. Дядьковский, а позднее И.Т. Глебов, К.В. Лебедев и др. на основании экспериментов, а главным образом клинических наблюдений утверждали, что отправления организма как в нормальном состоянии, так и при заболеваниях, определяются деятельностью нервов и мозга.
Ведущим отечественным интернистом первой трети 19 в. был М.Я. Мудров, свыше 20 лет возглавлявший кафедру и Клинический институт Московского университета. В своих работах и лекциях он развивал положения о единстве организма и среды и, в известной мере, о целостности организма («единство тела и духа»), об индивидуальном подходе к больному, значении профилактики заболевания («ибо легче предохранять от болезней, нежели их лечить; и в сем состоит первая обязанность»). Принцип М.Я. Мудрова «лечение не болезни, а самого больного» в тот период развития М., когда причины и сущность болезней были неизвестны, классификация болезней была произвольной, т.е. научно обоснованной нозологии не существовало, был вполне оправдан. М.Я. Мудров подчеркивал значение истории болезни как документальной основы клинической М., требовал тщательного ее ведения, тщательного расспроса больного и его обстоятельного физического обследования путем систематизированного осмотра, пальпации по разработанному им плану, а в последние годы деятельности также перкуссии и аускультации. Деятельностью М.Я. Мудрова были заложены основы традиций, характерных для всех московских терапевтических школ 19 в. вплоть до Г.А. Захарьина и А.А. Остроумова.
Достижения клиники внутренних болезней были связаны с успехами патологической анатомии и разработкой новых физических методов исследования больного. Передовые отечественные врачи были в числе первых в Европе, кто начал не только применять, но и совершенствовать и пропагандировать перкуссию и аускультацию. Так, известно, что петербургский профессор хирургии Я.О. Саполович еще в 90-х гг. 18 в. применял перкуссию по Ауэнбруггеру при обследовании больных перед операцией на грудной клетке. В Виленском университете перкуссию и аускультацию применяли профессора В.В. Герберский, обучавшийся исследованию органов грудной полости в Париже у Р. Лаэннека, и Ф. Римкевич — автор работы «О применении стетоскопа» (1824) — первого отечественного труда на данную тему. В Петербурге профессор Медико-хирургической академии П.А. Чаруковский один из первых стал применять перкуссию и аускультацию, описал эти методы в труде «Общая патологическая семиотика» (1825), а в 1828 г. опубликовал специальную работу «О стетоскопе и признаках помощью его открываемых». Наибольшие заслуги по внедрению и развитию физических методов обследования больного в России, бесспорно, принадлежат Г.И. Сокольскому. Он первый после Лаэннека написал крупный труд, посвященный физическими методам диагностики, — «О врачебном исследовании помощью слуха, особенно при посредстве стетоскопа» (1835), опубликованный за 4 года до выхода знаменитого труда И. Шкоды. В нем содержались не только сведения по истории открытия методов и их описанию, но и сравнительная оценка диагностических возможностей каждого из них, ценное усовершенствование методики перкуссии («Один или два пальца левой руки врача, наложенные для этой цели на грудь, могут служить не хуже, даже, по моему мнению, гораздо лучше плессиметра»).
Тяжелые условия жизни населения, частые неурожаи и голод, антисанитария и низкий уровень медпомощи, а чаще полное ее отсутствие имели естественным результатом исключительно высокую заболеваемость и смертность, особенно детскую. По данным Ф. Германа (1819), изучавшего метрические книги Синода и сведения Министерства полиции о родившихся и умерших, «... из тысячи новорожденных мальчиков достигают шестилетнего возраста около 555, менее половины достигают десятого года». По данным Г. Аттенгофера (1820), более 2/3 детей умирали до пятого года жизни. Изучение причин высокой смертности, заболеваемости, проблемы демографии все более привлекали к себе внимание врачей и статистиков. Появляется целый ряд медико-топографических и статистических описаний санитарного состояния отдельных городов и областей Российской империи. Наряду с богатым фактическим материалом эти исследования интересны тем, что в них, как, правило, устанавливается влияние на заболеваемость и смертность населения не только метеорологических, климатических условий, но также рода занятий, жилищно-бытовых условий населения. Так, в работе отечественного экономиста и статистика В.П. Андросова «Статистическая записка о Москве» (1832) показано, что высокая смертность детей среди ремесленников и дворовых людей связана прежде всего с бедностью, жизнью в сырых, холодных и тесных помещениях, а также недостатком присмотра. Высокий показатель смертности у ремесленников, в частности среди женщин, он связывал с нищетой, пьянством, венерическими заболеваниями. Усиление внимания к социальным проблемам и возросшие требования к методической стороне исследований получили отражение на страницах медицинской периодической печати и, прежде всего, в медицинской газете «Друг здравия», редактором которой был врач и видный общественный деятель К.И. Грум. В редакционной статье «Народное здоровье» первого номера газеты за 1836 г. выдвигалось положение о социальном значении М. и общественном призвании врача и высказывалось мнение, что каждый врач обязан изучать все факты, от которых зависит здоровье населения, содействовать его сохранению. Указывалось на необходимость тщательно собирать медико-топографические сведения, относящиеся не только к физической, но и социальной среде. Более углубленному изучению зависимости основных показателей здоровья населения от социально-экономических факторов способствовали успехи общей и санитарной статистики, которая во второй 19 в. переходит от описательного направления к анализу причин и социальной обусловленности явлений. О существенных сдвигах в разработке методологии статистических исследований свидетельствуют труды С.Ф. Гаевского (1778—1862) «Медико-топографические сведения о С.-Петербурге» (1834); «Статистические сведения о С.-Петербурге» (1836) и др., в которых показано влияние образа жизни и условий труда на здоровье жителей Петербурга. Некоторые пути дальнейшего совершенствования санитарно-статистических исследований указаны в работах 40-х годов профессора судебной М. Ришельевского лицея в Одессе А.А. Рафаловича (1816—1851), врача П.И. Соболыцикова и др.
Интерес к социальным проблемам М. нашел свое отражение в преподавании. Профессор Н.Я. Дьяков (1780—1806), читавший в Петербургской медико-хирургической академии медицинскую полицию в общем курсе судебной М., в «донесении» от 18 сентября 1804 г. писал: «врачебная полицейская наука предлагает правила и учения, по которым врачи могут давать советы правительству, как надлежит пещись о всеобщем здравии и благосостоянии народов в пользу государства... есть советодательница правительству государств, служащая к поддержанию государственного блаженства и всенародного здравия, к предохранению от пагубных болезней, снабжающих государство от жителей... Каждое государство старается о размножении своего народа, ибо то только государство может по справедливости почесться самым счастливым, сильнейшим и богатейшим, которое может похвалиться большим числом цветущих здоровьем граждан. Таким образом, славными мирными постановлениями щадится человечество, сберегаются люди и сохраняется размножившееся число их». Этот акцент на мероприятиях государства, способствующих «размножению своего народа» — попечению о беременных, роженицах, родильницах, «законных и незаконных новорожденных младенцах» сближает понимание сущности медицинской полиции с пониманием основных проблем социальной гигиены в истолковании их крупнейшими представителями немецкой и французской науки конца 19 — начала 20 в. Но в то время, как в начале 19 в. эти проблемы относились к области исключительно лишь государственной медицины, в 20 в. они составили предмет внимания и практических мероприятий не только со стороны государства как такового, но в еще большей мере и общественных кругов, органов самоуправления и отдельных социальных групп, вошли как предмет изучения в социальную гигиену.
К середине 19 в. круг вопросов, охватываемых медицинской полицией, настолько расширился, что ей стало тесно в рамках кафедры судебной медицины. Профессор Медико-хирургической академии П.П. Пелехин (1794—1871) в 1843 г. просил отделить в особую кафедру общую государственную М., в которую должны войти: а) медицинская полиция, состоящая из двух частей — всенародной гигиены и всенародной М., б) врачебные законоположения и судебная М. Для целей преподавания на самостоятельной кафедре «общей государственной медицины» П.П. Пелехин составил и представил в конференцию Петербургской медико-хирургической академии 3 марта 1845 г. «Программу медицинской полиции», в которой четко проявилось стремление к широкому охвату области взаимоотношений между условиями жизни различных групп населения и их общественным здоровьем. По своему содержанию программа выходила за рамки одной лишь государственной М., медицинской полиции и во многом приближалась к содержанию «социальной медицины», особенно в том ее понимании, к которому пришли в конце 19 в. немецкие ученые. Фактически она выражала программу социальной деятельности в области охраны здоровья и обеспечения общественного благосостояния, направленной прежде всего на укрепление мощи государства.
В стране не прекращались эпидемии. Только в течение 1804—1814 гг. было пять вспышек чумы. Широкое распространение имели паразитарные тифы, а также натуральная оспа, для борьбы с ней передовые русские врачи и общественные деятели стремились наладить оспопрививание, в организации которого деятельное участие принимало Вольное экономическое общество и некоторые видные деятели М. Вольное экономическое общество рассылало наставление, ланцеты, прививочный материал. Благодаря инициативе и энергии Е.О. Мухина вакцинация против оспы по Дженнеру в 1801 г. была введена в Москве. Одновременно организацией вакцинации в Прибалтике и Белоруссии занимались О. Гун, профессор Виленского университета А. Бекю (1769—1824), инспектор Минской врачебной управы И.А. Бернард и др. По инициативе Виленского медицинского общества в Вильно за счет средств от добровольных пожертвований в 1808 г. был основан институт вакцинации; в его задачи входила организация правильной вакцинации на основе инструкций, полученных в результате непосредственной переписки с Э. Дженнером, а также обеспечение прививочным материалом. Другим важным начинанием виленских врачей, направленным на борьбу с детской смертностью, было создание института материнства (1809) — благотворительного учреждения, призванного оказывать медицинскую и материальную помощь неимущим женщинам, одиноким женщинам и вдовам.
Передовые отечественные врачи всегда остро переживали страдания народа и не жалели ни времени, ни сил, ни средств, ни самой жизни для того, чтобы облегчить эти страдания. Облегчению участи «униженных и оскорбленных» посвятил свою жизнь отечественный врач и общественный деятель Ф.П. Гааз (1780—1853), более 20 лет проработавший главным врачом московских тюрем. Благодаря деятельности Ф.П. Гааза был облегчен режим в тюрьмах, отменены наиболее жестокие и унизительные процедуры в отношении заключенных, построена тюремная больница, школа для детей арестантов и т.п. Он организовал сбор средств на строительство больницы для лечения бесприютных больных, и все личные средства тратил на оказание помощи бедным. Действия Ф.П. Гааза не были результатом религиозной экзальтации; так он понимал смысл врачебной профессии. И, хотя Ф.П. Гааз не внес существенного вклада в развитие медицинской науки, его имя навсегда вписано в историю отечественной М. как пример благородства, самоотверженности, гуманности и бескорыстия.
Подлинно героический период в истории русской М. — борьба с эпидемией холеры в конце 20-х — начале 30-х гг. 19 в. Эпидемии холеры повторялись в 1847—1848 гг., в 1853 г. и позднее. Лучшие медицинские силы страны были собраны в специальном Комитете по борьбе с холерой, в котором в разное время работали М.Я. Мудров и И.Е. Дядьковский, Ф.И. Иноземцев и Н.И. Пирогов, Н.И. Еллинский и И.Д. Книгин и др. Русские врачи (М.Я. Мудров, И.Е. Дядьковский, Н.И. Пирогов и pp.) внесли весомый вклад в изучение клиники и эпидемиологии холеры. В самоотверженной борьбе русских врачей с эпидемией не обошлось без жертв: самой ощутимой потерей для русской М. того времени была героическая смерть М.Я. Мудрова во время борьбы с холерой в Петербурге (1831).
После подавления восстания декабристов реакция усилилась. Учинение политического сыска, учреждение «Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии» (1826) и негласной полиции с широчайшими полномочиями, создание корпуса жандармов (1826) и разделение всей России на особые жандармские округа, жестокие преследования участников антикрепостнического движения и революционных кружков, гонения на печать. просвещение и литературу — это лишь краткий перечень мер, принятых для сохранения феодально-крепостнических порядков, «искоренения идущей с Запада революционной заразы». Постоянно усиливалось гонение на литературу и печать. В 1826—1828 гг. был создан новый цензурный комитет. За публикацию материалов, в которых содержались суждения, сколько-нибудь отличные от официальных взглядов, закрывались журналы. В расцвете сил и творческого гения трагически погибли А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, томились в солдатчине А.И. Полежаев и Т.Г. Шевченко, были отправлены в ссылку И.С. Тургенев и М.Е. Салтыков-Щедрин. Жестокая расправа постигла революционные кружки Сунгурова, А.И. Герцена, Н.В. Станкевича, петрашевцев, в добровольное изгнание для продолжения революционной борьбы отправились А.И. Герцен, М.А. Бакунин, Н.П. Огарев и др. Идеологическое наступление на просвещение нашло выражение в сформулированной министром народного просвещения С.С. Уваровым «официальной теории народности». Новый устав (1835) лишил университеты автономии, подчинив их назначенным министром просвещения чиновникам (попечителям). Был введен строгий надзор за преподаванием, «учащими и учащимися». Инструкцией Министерства просвещения, действовавшей в 30-х гг. 19 в. на медицинских факультетах университетов, в частности, предписывалось: «... обращать особое внимание на нравственное направление преподавания, строго наблюдать, чтобы в уроках профессоров и учителей не укрывалось ничего колеблющего или ослабляющего учение православной веры; чтобы в книгохранилищах для употребления учебников не было книг, противных вере, правительству и нравственности, и чтобы подобные сочинения не обращались в их руках. Руководством должны служить лишь книги, утвержденные учебным начальством. Инспектора должны устанавливать, внушается ли юношеству при всяком удобном случае преданность к престолу и повиновение к власти». В мае 1834 г. совет Московского университета переслал в отделение врачебных наук (так тогда назывался медицинский факультет) письмо министра народного просвещения, в котором предлагалось профессорам излагать философию и смежные науки «совершенно сообразно с духом евангелическим». Письмо министра было объявлено профессорам под расписку. Легко понять, почему вскоре был отстранен от преподавания И.Е. Дядьковский.
Казалось, система всеобщего молчания, страха и всеобщей официальной лжи торжествует. С.С. Уваров, уходя в отставку с поста министра народного просвещения, цинично говорил историку М.П. Погодину, что, хотя он и не считал возможным закрыть университеты (неудобно перед Европой), он спокоен, ибо ему удалось задержать развитие России на 50, а может быть, и на 100 лет.
Но С.С. Уваров ошибался. Реакции не удалось остановить прогресс. В 30-х гг. 19 в. продолжала громко звучать свободолюбивая лира А. С. Пушкина, политические и эстетические идеалы которого опирались на осознание единства всемирной истории и всемирной культуры, признание духовной свободы человека и веру в безграничность духовного потенциала свободной личности.
Сатира Н.В. Гоголя обличала полную «бездуховность» дворянско-крепостнической и чиновничьей России, уродства и противоестественность господствующих в России общественных форм. Антикрепостническая и антисамодержавная направленность, защита прав и достоинства личности звучали в ранних произведениях И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, Ф.М. Достоевского, М.Е. Салтыкова-Щедрина и др. В кружках Н.В. Станкевича — М.А. Бакунина — В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.П. Огарева, в эстетике В.Г. Белинского, философских работах А.И. Герцена («Письма об изучении природы», 1844—1845) интенсивно развивалась русская философская и общественная мысль. Передовая русская литература, философская и общественная мысль стали тем родником, из которого брали начало крупные достижения отечественные естествознания и М.
Во второй четверти 19 в. работали основатель Петербургской математической школы П.Л. Чебышев; создатель неэвклидовой геометрии Н.И. Лобачевский; один из основоположников отечественной астрономии В.Я. Струве; В.В. Петров, открывший электрическую дугу; А.А. Воскресенский и Н.Н. Зинин, положившие начало органической химии в России. В 40—50-х гг., в условиях усиления политической реакции, когда идея развития природы рассматривалась как подрывающая основы не только религии, но и государства, учение об эволюционном развитии мира развивал и популяризировал ученик Дядьковского К.Ф. Рулье, вокруг которого в 50-х гг. сложилась первая в мировой додарвинской биологии школа зоологов-эволюционистов (Н.А. Северцов, А.П. Богданов, С.А. Усов и др.). Лекции К.Ф. Рулье об эволюционном учении были запрещены царским правительством, поскольку в них отстаивался исторический метод в биологии. В 1841—1852 гг. в Петербургской медико-хирургической академии работал один из основоположников эмбриологии К.М. Бэр, установивший основные этапы эмбриогенеза и доказавший, что человек развивается по единому плану со всеми млекопитающими. Факты, открытые К.М. Бэром в эмбриологии, явились доказательством несостоятельности преформизма.
В 30—10-х гг. русская М. находилась в сложном положении. Героическая смерть М.Я. Мудрова, изгнание из университета И.Е. Дядьковского, уход в отставку Е.О. Мухина лишили ее признанных руководителей. Однако вступившие на арену большой науки их ученики и последователи Н.И. Пирогов, Ф.И. Иноземцев, И.Т. Глебов, К.В. Лебедев, Г.И. Сокольский, А.М. Филомафитский продолжили и развили передовые начинания своих учителей. Один из основоположников отечественной физиологии И.Т. Глебов много сделал для экспериментального обоснования воззрений И.Е. Дядьковского, впервые высказал идеи о так называемом темном мышечном чувстве, о возможности центрального торможения, обоснованные и развитые, позднее И.М. Сеченовым. Он был неутомимым пропагандистом экспериментальной физиологии, талантливым педагогом и крупным деятелем образования. В 1857 г. он был назначен вице-президентом Медико-хирургической академии в Петербурге, где вместе с ее президентом П.А. Дубовицким и ученым секретарем Н.Н. Зининым участвовал в проведении реформы преподавания и организации новых кафедр в академии. Он один из инициаторов приглашения в академию молодых талантливых педагогов, в т.ч. И.М. Сеченова и С.П. Боткина, создания при академии специального института врачей, готовящихся к профессорской деятельности.
Автор первого отечественного руководства по физиологии, профессор Московского университета А.М. Филомафитский в противовес умозрительным шеллингианским концепциям отстаивал «путь опыта и наблюдения». Официально принятому термину «жизненная сила» он давал истолкование, уничтожавшее его мистическое содержание: «Жизненная сила есть свойство органической материи... обнаруживать жизнедеятельность, выраженную или внутренним — питание, отделение, — или наружным движением оной материи»... «Жизненной силы не следует смешивать с душою, как это сделал Шталь». Ряд исследований А.М. Филомафитский посвятил проблеме переливания крови, изобрел собственный аппарат для переливания, опубликовал «Трактат о переливании крови» (1848), где приведены и многочисленные собственные наблюдения. Сущность переливания крови он видел не в механическом возмещении утраченного ее количества, а в «действии на нервную систему, а через последнюю и на все отправления животнохимического процесса». А.М. Филомафитский был близок к мысли о торможении рефлексов — «задержании отраженных или сочетательных движений»; он писал об этом в своем учебном руководстве. Заслугой А.М. Филомафитского является не только разработка экспериментальной физиологии, но и ее преподавание с применением эксперимента. По инициативе А.М. Филомафитского его сотрудник, будущий видный хирург В.А. Басов сделал для демонстрации на лекции по пищеварению искусственный свищ (фистулу) желудка у собаки (1842). Этот опыт, как и осуществленный в 1849 г. «сахарный укол» К. Бернара (получение искусственного диабета разрушением дна четвертого желудочка мозга), вошел в историю науки как классический образец познания жизненных явлений на основе эксперимента.
Дальнейшее развитие получила и патология. В 1849 г. по инициативе А.И. Полунина (1820—1888) в Московском университете была основана первая в России кафедра патологической анатомии и патологической физиологии. А.И. Полунин положил начало организации музея патологоанатомических препаратов. Им упорядочено секционное дело в московских больницах, что способствовало связи патологической анатомии с практической М. Из научных работ А.И. Полунина наибольшее значение имеют патологоанатомические исследования изменений при холере (1848) и труды о влиянии секреции желудка на кроветворение. Патологическая анатомия лучшими отечественными клиницистами расценивалась как важная часть единой науки о больном человеке. Патологоанатомический метод широко и быстро внедрялся в клинику. Данные этого метода использовались Л.С. Севруком, который с 1834 г. читал специальный курс в Виленской медико-хирургической академии, а затем в Московском университете; А.И. Овером (1804—1864), издавшим специальный патологоанатомический атлас; Н.И. Пироговым, Ф.И. Иноземцевым и Г.И. Сокольским. Последний часто начинал описание болезни не с симптоматики, а с изложения данных вскрытия.
Г.И. Сокольский (1807—1886), несомненно, был ведущим терапевтом второй четверти 19 в. Он внес значительный вклад в изучение вопросов патологии органов дыхания и сердца. В 1838 г. он опубликовал труд «Учение о грудных болезнях», в котором подробно описал ревматическое поражение сердца. Т.о., одновременно с французским терапевтом Ж. Буйо (1796—1881) и независимо от него Г.И. Сокольский установил закономерную связь ревматического поражения сердца и суставов и обрисовал клинико-анатомические формы болезни.
На позициях естественнонаучного материализма стоял Ф.И. Иноземцев. Он подчеркивал определяющую роль окружающей среды в сохранении здоровья и возникновении болезней; придавал большое значение профилактике. В отличие от многих клиницистов того времени он понимал значение социальной среды (общественной жизни) для зарождения различных болезненных состояний. Ф.И. Иноземцев пропагандировал связь М. с естественными науками, «живое», «физиологическое» воззрение на больного и болезнь, внедрял передовые методики клинического преподавания и обследования больного. Он усовершенствовал преподавание на кафедре практической хирургии. Им была основана домашняя поликлиника, которую впервые в России он широко использовал как базу для усовершенствования врачей. Ученики Ф.И. Иноземцева стали не только хирургами, но и физиологами, терапевтами, патологами, гистологами, акушерами, дерматологами, венерологами, бальнеологами.
Огромный вклад в развитие хирургии и всей отечественной М. середины 19 в. внес Н.И. Пирогов. В своем выступлении, посвященном 25-летию со дня смерти Н.И. Пирогова (1906), И.П. Павлов говорил о его выдающемся уме естествоиспытателя: «... при первом прикосновении к своей специальности — хирургии — он открыл естественнонаучные основы этой науки: нормальную и патологическую анатомии и физиологический опыт...». Н.И. Пирогову принадлежит заслуга создания основ современной топографической анатомии и развития хирургии на этом прочном фундаменте. Задавшись целью вооружить хирурга анатомическими изображениями и препаратами, возможно более близкими к прижизненному состоянию органов и тканей, Н.И. Пирогов, продолжая опыты И.В. Буяльского, разработал метод «ледяной анатомии». Замораживая тела (при температуре — 18°) перед наступлением трупных изменений, он высекал отдельные органы («скульптурная анатомия»), распиливал их в различных направлениях на тончайшие пластинки и Т.о. получал возможность впервые установить точные топографические соотношения органов и тканей («Иллюстрированная топографическая анатомия распилов...», атлас в 4 томах, 1852—1859). Чтобы яснее представить значение этого титанического труда для хирургии эпохи Н.И. Пирогова, достаточно вспомнить картину, которую являли тогда ведущие клиники Германии. «Было так, что анатомия и физиология — сами по себе, а медицина — сама по себе... Ни Руст, ни Грефе, ни Диффенбах не знали анатомии...», — вспоминал Н.И. Пирогов о годах, проведенных в Германии.
О масштабах патологоанатомических исследований великого русского хирурга свидетельствует, например, тот факт, что его труд «Патологическая анатомия азиатской холеры» (1850) основывается на материалах свыше 1 тыс. вскрытий, произведенных им в годы холерных эпидемий в Дерпте (1830) и Петербурге (1848). Важнейшим условием научной разработки проблем хирургии Н.И. Пирогов считал эксперимент на животных, который должен предшествовать применению в клинике новых методов оперативных вмешательств. В условиях господства миазматических представлений, до опубликования основных работ по микробиологии, антисептике и асептике русский хирург-естествоиспытатель вплотную приблизился к научному пониманию природы зараженных ран и широко распространенных «госпитальных зараз», добился перевода в особые здания больных рожей, гангреной, пиемией и тем положил начало специальным отделениям так называемой гнойной хирургии, отделив ее от «чистой». При обработке ран он требовал «... применения антисептического способа в самом строгом значении слова. Нельзя быть наполовину антисептиком... Кто покроет рану только снаружи антисептической повязкой, а в глубине даст развиться ферментам в сгустках крови и в размозженных или ушибленных тканях, тот совершит только половину дела, и притом самую незначительную...». Т.о., не довольствуясь наложением по Листеру антисептической повязки снаружи, Н.И. Пирогов предусмотрел принятую сейчас глубокую хирургическую обработку раны. На основе своего опыта участия в нескольких войнах он разработал и предложил стройную для того времени систему лечебно-эвакуационного обеспечения раненых на войне, что позволяет считать его одним из основоположников современной организации и тактики военно-медицинской службы, а также военно-полевой хирургии.
Одной из ведущих проблем М. в 40-х гг. 19 в. была проблема обезболивания. Отечественным ученым принадлежит одно из ведущих мест в разработке вопросов, связанных с применением наркоза в клинике и в военно-полевой обстановке. В то время как за границей велись споры о приоритете, о моральных основаниях для применения наркоза и праве врача лишать больного на время действия наркоза свободы воли, ведущие отечественные ученые начали экспериментальное исследование средств общего обезболивания. В Московском университете под руководством А.М. Филомафитского был создан комитет по изучению наркоза, в состав которого вошли клиницисты, физиологи и фармакологи. В соответствии с программой исследований, разработанной А.М. Филомафитским, клиническому применению наркоза предшествовала серия опытов на животных. Первая в России операция под наркозом была выполнена Ф.И. Иноземцевым в начале февраля 1847 г. (т.е. всего через 31/2 месяца после сообщения об успешном применении эфирного наркоза американским хирургом Дж. Уорреном), Одновременно с Ф.И. Иноземцевым этот метод общего обезболивания стали применять Б.Ф. Беренс, Л. Ляхович и другие врачи Риги и Вильно. Немедленно после первых зарубежных сообщений об эмпирическом применении эфирного наркоза приступил к проверке и изучению нового метода Н.И. Пирогов, обмениваясь результатами исследований с А.М. Филомафитским. Н.И. Пирогов дал научное обоснование применения ингаляционного наркоза; в 1847 г. в Дагестане при осаде аула Салты он впервые применил эфирный наркоз в массовой военно-полевой хирургической практике. Авторитет Ф.И. Иноземцева и Н.И. Пирогова способствовал быстрому признанию и повсеместному применению отечественными хирургами методов общего обезболивания.
К концу первой половины 19 в. относится зарождение отечественной педиатрии, связанное с деятельностью профессора Медико-хирургической академии С.Ф. Хотовицкого, который в течение 30 лет преподавал акушерство и детские болезни. В 1847 г. он опубликовал фундаментальный труд «Педиятрика» — первое оригинальное отечественное руководство по детским болезням, в котором выделение педиатрии в самостоятельную науку обосновывалось особенностями детского организма. Интерес общественности к проблемам педиатрии объяснялся охранявшимся исключительно высоким уровнем заболеваемости и смертности детей раннего возраста и обусловил выпуск в те же годы ряда популярных изданий, посвященных вопросам предупреждения ранней детской смертности.
На базе созданных в конце 18 в. психиатрических больниц в 20—30-х гг. 19 в. начинает складываться отечественная психиатрия: появились работы З.И. Кибальчича (1772—1831), П.П. Малиновского (1818—?) и др., отражавшие материалистические взгляды авторов на природу психических болезней. Так, автор первого оригинального отечественного руководства по психиатрии «Помешательство, описанное так, как оно является врачу в практике» (1847) П.П. Малиновский следующим образом определял психическое расстройство: «Помешательство есть нервная болезнь, в которой отправление мозга изменяется так, что при кажущемся телесном здоровье душевные способности проявляются неправильно». Эта точка зрения перекликается со взглядами крупнейших представителей теоретической и клинической М. Е.О. Мухина, И.Е. Дядьковского, А.М. Филомафитского. Гуманной задаче улучшения содержания психически больных и превращения «долгаузов», являвшихся в сущности местами заключения, в лечебные психиатрические учреждения посвятили свою деятельность врачи петербургской больницы «Всех скорбящих». Московская Преображенская больница, где под руководством В.Ф. Саблера были проведены радикальные перемены — с больных сняли цепи, врачи стали вести «скорбные листы» (истории болезни), были организованы трудовые мастерские, — стала центром формирования научной психиатрической мысли (здесь работали А.У. Фрезе, С.С. Корсаков и другие видные психиатры второй половины 19 в.).
В 40-х гг. 19 в. была проведена реформа клинического преподавания, положительно сказавшаяся на качестве практической подготовки отечественных врачей. По инициативе Н.И. Пирогова в Петербургской медико-хирургической академии начали функционировать наряду с академическими (факультетскими) госпитальные хирургическая клиника (с 1841 г. ее возглавил Н.И. Пирогов) и терапевтическая клиника (с 1842 г.). Обосновывая необходимость такого разделения клинического преподавания, в письме к попечителю академии Н.И. Пирогов писал: «Профессор клиники должен начинать, так сказать, с азбуки практической медицины. Он заставляет слушателей входить во все подробности при постели больного, учит делать экзамен болезни, словом, цель его показать методу распознавания и главный план лечения болезни в каждом индивидууме. Напротив, профессор практической медицины госпитальной устремляет при своих визитациях внимание слушателей на целую массу одинаковых болезненных случаев, показывая при том и индивидуальные их оттенки; статистическим способом доказывает пользу той или другой методы лечения; лекции его состоят в обзоре главнейших случаев, сравнении их и пр.; у него в руках средство продвигать науку вперед. Посему обе эти кафедру клинической и госпитальной профессуры — необходимы в каждом учебном заведении». Выделение госпитальных клиник в Московском университете произошло в 1846 г.; инициаторами его еще в 1840 г. выступили Ф.И. Иноземцев, хирург А.И. Поль (1794—1864) и терапевт А.И. Овер. В Киевском университете реформа клинического преподавания хирургии связана с деятельностью ученика Н.И. Пирогова В.А. Караваева (1811—1892). Предпринимались попытки дальнейшей дифференциации преподавания. Особенно длительные споры велись на медицинском факультете Московского университета в отношении образования самостоятельных кафедр педиатрии и нервных болезней. Однако результаты их нашли организационное воплощение лишь в конце 60-х гг. 19 в.
Медицина в России во второй половине 19 — начале 20 в. Поражение в Крымской войне обнаружило гнилость и бессилие крепостнического строя в России. В условиях кризиса феодально-крепостнического строя в стране сложилась революционная ситуация, ускорившая отмену крепостного права, а также обусловившая проведение ряда буржуазных реформ (земской, 1864; судебной, 1864: городской, 1870 и др.). В результате сложились благоприятные условия для быстрого развития капитализма в промышленности и сельском хозяйстве. Производство промышленной продукции за 1860—1900 гг. увеличилось более чем в 7 раз, протяженность железных дорог за 1865—1895 гг. — более чем в 9 раз, расширился внутренний товарооборот. Быстрыми темпами росли промышленные города. Если в 1863 г. в европейской части России численность городского населения составляла 6,1 млн. человек, то в 1897 г. — 12 млн.
Проведенные «сверху» реформы не внесли радикального улучшения в положение крестьян. Площадь надельной земли, которой пользовались крестьяне до 1861 г., значительно уменьшилась. Основные земельные угодья остались в руках помещиков, около 3 млн. крестьян вообще не получили земли. Россия продолжает оставаться страной произвола и полицейского деспотизма. Крестьяне, рабочие и трудовая интеллигенция были лишены элементарных политических прав. Следствием глубокой неудовлетворенности результатами реформ стал подъем освободительного движения, выразителем которого были передовая интеллигенция и революционно настроенное студенчество, в т.ч. врачи и студенты-медики.
Передовые общественно политические взгляды всегда отличали лучших деятелей отечественной М., вследствие чего они нередко подвергались преследованиям царизма. По политическим мотивам покинул Россию И.И. Мечников, был уволен из Московского университета и выслан из России Ф.Ф. Эрисман, под надзором полиции состояли С.С. Корсаков, В.П. Сербский, П.Ф. Лесгафт, к политически «неблагонадежным» относились И.М. Сеченов, В.М. Бехтерев и другие корифеи отечественной медицинской науки.
Под влиянием общественно-политического подъема 60—70-х гг. возникла и развилась общественная М. Среди русских врачей «явилось стремление, — писал журнал «Медицинский вестник» в 1864 г., — к участию в общественной деятельности, желание не отставать от общего движения, разрабатывать вопросы, без разрешения которых не могло бы считаться полным гражданственное преуспеяние». К таким вопросам русские общественные врачи относили прежде всего выявление социальных корней распространенных, особенно эпидемических, заболеваний, разработку мер по оздоровлению населения и улучшению медпомощи. Трибуной русской общественной М. стали новые органы медицинской периодической печати и медицинского общества. Появились медицинские издания нового типа — «Современная медицина», «Медицинский вестник», «Архив судебной медицины и общественной гигиены» и др., основной отличительной чертой которых была социальная направленность и живая связь с передовой общественной мыслью. Новые медицинские общества ставили перед собой цели содействовать не только развитию своей специальности, но прежде всего — охране здоровья населения. Русские медицинские общества отличало сочетание научности и высокого профессионализма с общественной направленностью деятельности. Это качество делало их весьма внушительной общественно-политической и нравственной силой. Они откликались на самые различные общественные нужды, воспитывали у врачей чувства гражданского долга и ответственности перед народом и товарищами по профессии, стремление быть не зрителями, а активными участниками происходящих событий.
Из вынужденных реформ, проведенных правительством в 60-х—70-х гг., наибольшее значение для М. и медико-санитарного дела имело земское самоуправление, постепенно введенное в 34 губерниях России. Возникшая на этой основе земская медицина в целом представляла собой наиболее прогрессивную для своего времени форму организации медпомощи сельскому населению. Получив тяжелое наследство, земства не только значительно увеличили число медицинских учреждений, но и в корне перестроили всю систему организации медпомощи сельскому населению. Важным начинанием земской М. было создание санитарной организации. Врачи, прибывавшие в земства из столиц или других университетских центров, относились к своим обязанностям как к исполнению высокого гражданского долга. Уже в 70-х гг. сложился тип земского врача — носителя высоких морально-этических качеств и общественных принципов. Это оказало значительное влияние на развитие лучших гуманистических традиций отечественной медицины. Земская М. воспитала плеяду крупных деятелей общественной М. (И.И. Моллесон, Е.А. Осипов, Н.И. Тезяков, П.Ф. Кудрявцев, П.И. Куркин, З.Г. Френкель, С.Н. Игумнов, С.М. Богословский, В.А. Левицкий, З.П. Соловьев, А.Н. Сысин и др.), многие из которых были активными участниками строительства советского здравоохранения. Благодаря самоотверженному и бескорыстному исполнению земскими врачами своего общественного долга в земских губерниях существенно изменился уровень медпомощи сельскому населению. За 1870—1910 гг. число врачей в земских губерниях увеличилось в 5 раз. в т.ч. непосредственно работающих в сельской местности — почти в 10 раз, обеспеченность населения больничными койками более чем в 3 раза. Если в 1870 г. 1 врач обслуживал 95 тыс. человек, проживающих на территории радиусом 39 верст, то в 1910 г. — 28 тыс. человек на территории радиусом 17 верст. Однако, несмотря на усилия прогрессивных деятелей земской М., в целом по России состояние здоровья и медицинского обслуживания населения не претерпело существенных изменений: в неземских губерниях 1 врач должен был обслуживать до 70 тыс. чел. (а в Средней Азии — около 93 тыс. человек), проживающих на территории от 2 до 13 тыс. км2; в среднем по России в 1913 г. на 10 тыс. сельских жителей приходилось в сельских больничных учреждениях 2,3 койки (более чем вдвое меньше, чем в земских губерниях). Через 50 лет после земской и городской реформ почти не изменились показатели смертности населения: в 1850—1862 гг. общая смертность населения России составляла 31,7 на 1 тыс. жителей, причем 53,8% всех случаев смерти приходилось на детей в возрасте до 5 лет; в 1913 г. общая смертность составляла 29,1 на 1 тыс. жителей, среди умерших свыше 51% составляли дети до 5-летнего возраста.
Крайне неудовлетворительным оставалось санитарное состояние страны. В 1913 г. на 1063 городов только в 215 был водопровод, из них 145 не имели очистных сооружений, канализацией было обеспечено 23 города, и то лишь в центральных районах. Многие города не имели постоянной санитарной организации. Незначительное число санитарных врачей, работавших в городах и земствах, имело возможность выполнять главным образом санитарно-статистические и санитарно-полицейские функции. Из 257 имевшихся в стране санитарных врачей 135 работали в Москве и Петербурге, больницы для больных инфекционными болезнями, или инфекционные бараки имелись только в 100» городах, санитарно-бактериологические лаборатории — в 49, дезинфекционные камеры — в 54. Ассигнования на проведение санитарных мероприятий составляли 11/4 копейки на душу населения в год. Не случайно, что в стране, в т.ч. и в земских губерниях, не прекращались эпидемии. Такое положение не могло быть исправлено общественной деятельностью. Требовались коренные преобразования, осуществление которых было возможно лишь на основе изменения всей сложившейся в стране системы социально-экономических отношений.
Во второй половине 19 в. в России сложились благоприятные условия для развития естественных и технических наук. Этому способствовали, с одной стороны, рост производительных сил и потребности в естественнонаучных знаниях развивающегося капиталистического производства, с другой — подъем освободительного движения и общественной мысли. «Не пробудись наше общество вообще к новой кипучей деятельности, — писал позднее К.А. Тимирязев в своем «Очерке развития естествознания в России», — может быть Менделеев и Ценковский скоротали бы свой век учителями в Симферополе и Ярославле, правовед Ковалевский был бы прокурором, юнкер Бекетов — эскадронным командиром, а сапер Сеченов рыл бы траншеи по всем правилам своего искусства». Значительное влияние на развитие отечественной естественнонаучной мысли во второй половине 19 в. оказала идеология революционных демократов, стоявших на позициях материалистического монизма. Естественнонаучные представления революционных демократов во многом определили как тематику теоретических и экспериментальных исследований (изучение морфологии и физиологии нервной системы, выявление анатомо-физиологических корреляций, механизмов регулирующего влияния нервной системы на функции различных систем и органов и обеспечения целостности реакций организма), так и основные методологические принципы отечественной М. второй половины 19 в. (целостность организма, единство организма и окружающей среды, ведущая и регулирующая роль нервной системы в жизнедеятельности организма). А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов и их последователи стремились к преодолению созерцательности материализма 18 в., к созданию «философии действия», сознавали, что обоснование и распространение материалистического мировоззрения возможно лишь на базе естествознания. Поэтому они много внимания уделяли методологическим проблемам естествознания, пропаганде и распространению естественнонаучных знаний. «Одна из главных потребностей нашего времени, — писал А.И. Герцен, — обобщение истинных должных сведений об естествоведении. Их много в науке, их мало в обществе. Надобно втолкнуть их в поток общественного сознания; надобно сделать их доступными. Нам кажется почти невозможным без естествоведения воспитать действительно мощное умственное развитие». «Философия действия» практически была методологической основой отечественной естественнонаучной мысли второй половины 19 в. В трудах ведущих деятелей отечественного естествознания (И.М. Сеченова, К.А. Тимирязева, И.И. Мечникова, Д.И. Менделеева, А.Г. Столетова, И.П. Павлова и др.) содержалась критика идеалистических представлений и разрабатывались теоретико-познавательные концепции, которые, несмотря на известное влияние позитивизма, оставались в основе своей материалистическими. В тесной связи с идеями И.М. Сеченова и И.П. Павлова развивалось естественнонаучное направление в психологии — «объективная психология» или «психорефлексология» В.М. Бехтерева, «биопсихология» В.А. Вагнера (1849—1934), «реальная психология» Н.Н. Ланге (1858—1921). Деятели отечественного естествознания второй половины 19 — начала 20 вв. внесли выдающийся вклад в развитие мировой науки — химии, физики, техники.
К концу 19 в. в России имелось около 30 экспериментальных лабораторий, станций и научно-исследовательских институтов медико-биологического профиля, в т.ч. один из крупнейших в Европе институт экспериментальной медицины в Петербурге (основан в 1890), Бактериологический институт Московского университета и др. В этих учреждениях работали многие выдающиеся отечественные ученые, были сделаны крупные научные открытия.
Наибольшее развитие во второй половине 19 в. получили биологические науки, развивавшие в основном эволюционное и функциональное направления. Большая заслуга в пропаганде и творческом развитии эволюционного учения принадлежит К.А. Тимирязеву. Исследованиями основоположника и создателя эволюционной палеонтологии В.О. Ковалевского (1842—1883) было не только установлено родство и филогенетическая преемственность между ископаемыми формами, но и выявлен механизм эволюционных изменений — связь изменяющегося соотношения морфологических признаков и функциональных особенностей организмов с условиями их существования. А.О. Ковалевский и И.И. Мечников — создатели эволюционной и сравнительной эмбриологии. Их труды внесли генеалогическое и филогенетическое содержание в теорию зародышевых листков, сыграли ведущую роль в доказательстве гомологичности зародышевых листков у всех животных — позвоночных и беспозвоночных. Исследования А.О. Ковалевского, А.И. Бабухина, А.С. Догеля и др. положили начало сравнительной гистологии, И.И. Мечников — один из создателей сравнительной патологии.
В конце 19 в. началось развитие отечественной генетики. С.И. Коржинский (1861—1900), независимо от X. де Фриса, в 1899 г. дал научное обоснование явлению мутагенеза и сформулировал мутационную теорию эволюции (теорию гетерогенезиса). Подобно первым генетикам Запада, С.И. Коржинский рассматривал мутации как единственный фактор эволюции, пытался заменить дарвинизм мутационной теорией, считая, что ведущая роль в эволюционном процессе принадлежит не естественному отбору наиболее приспособленных к условиям существования форм, а неупорядоченному самопроизвольному возникновению мутационных форм организмов. Эти тенденции вызвали справедливую критику со стороны К.А. Тимирязева и других отечественных биологов-эволюционистов, которые, признавая значение установленных Г. Менделем законов наследственности и возможность влияния мутаций на эволюционный процесс, последовательно отстаивали основные положения дарвинизма. К концу 19 — началу 20 в. относятся важные для развития генетики цитологические исследования С.Г. Навашина (1857—1930). открывшего явление двойного оплодотворения у покрытосемянных и внесшего крупный вклад в изучение морфологии хромосом; В.И. Беляева (1855—1911), описавшего механизм митоза и независимо от О. Гертвига открывшего мейоз; Н.К. Кольцова, Д.Н. Прянишникова и др. Постепенно сложилась крупная школа отечественных генетиков, которая в 20—30-х гг. 20 в. получила мировое признание.
Крупные открытия сделаны отечественными морфологами. П.Ф. Лесгафт (1837—1909) — один из создателей теоретической анатомии, развивал функционально-анатомическое направление. Итогом его научной деятельности стал капитальный труд «Основы теоретической анатомии», в котором обосновывались идеи взаимной приспособленности структуры и функции органов и систем организма, высказанные еще Н.И. Пироговым. На базе этих фундаментальных представлений он сформулировал положение о возможности направленного воздействия специально разработанного комплекса физических упражнений на развитие органов человеческого тела и всего организма. П. Лесгафт создал теорию физического воспитания, в основе которой лежит принцип единства физического и умственного развития организма. Особенно значителен вклад отечественных морфологов в изучение проблем нейроанатомии и нейрогистологии. А.И. Бабухин (1827—1891), М.Д. Лавдовский (1847—1903), А.Е. Голубев (1834—1926), П.В. Рудановский (1829—1888), Н.А. Хржонщевский (1836—1906) и др. внесли много усовершенствований в анатомо-гистологическую технику А.П. Вальтер (1817—1889) за 11 лет до К. Бернара доказал сосудосуживающее действие симпатических нервных волокон (1842). За оригинальную методику и выполнение гистологических исследований строения корешков спинномозговых нервов человека и высших животных П.В. Рудаковский был избран членом-корреспондентом Парижской академии наук. В 50-х гг. появились классические работы Н.М. Якубовича (1817—1879) по морфологическому изучению строения головного и спинного мозга и связи периферических нервов с центром, удостоенные Монтионовской премии Парижской академией наук. Школа Д.Н. Зернова (1843—1917) известна классическими работами по индивидуальной изменчивости борозд и извилин коры головного мозга, а также сравнительной морфологии кишечника; Д.Н. Зернов доказал несостоятельность теории итальянского психиатра и криминалиста Ч. Ломброзо (1836—1909) о врожденной преступности. Ф.В. Овсянникову принадлежит открытие главного сосудодвигательного центра в продолговатом мозге. В.А. Бецем изучены особенности строения коры головного мозга, открыты гигантские пирамидные клетки (клетки Беца), А.И. Бабухин одним из первых описал нейрофибриллы в периферических нервных волокнах, установил, что осевые цилиндры нервных волокон являются отростками нервных клеток, обнаружил аксон-рефлекс, свидетельствующий о способности нервов проводить возбуждение в обоих направлениях. М.Д. Лавдовский описал строение и развитие нервных окончаний в мышцах и коже. А.В. Немилов (1879—1942) — строение нервного волокна. А.С. Догелем (1895), С.Е. Михайловым (1907) и В.П. Воробьевым (1917) были проведены первые морфологические исследования внутрисердечной нервной системы. А.И. Бабухину и Ф.В. Овсянникову принадлежит заслуга создания в России гистологии как науки и дисциплины для преподавания. Т.о., к началу деятельности И.П. Павлова, Н.Е. Введенского и их школ отечественная физиология уже опиралась на прочную морфологическую базу.
В свою очередь, физиология оказывала сильное влияние на тематику морфологических исследований и дальнейшее ее развитие в функциональном направлении: под непосредственным влиянием экспериментальной физиологии зарождались, например, цитоархитектонические исследования В.А. Беца, связавшего между собой анатомию, гистологию и физиологию, гистофизиологические исследования А.И. Бабухиным нервно-мышечной системы, Ф.В. Овсянниковым и его учениками и последователями — ц.н.с. Мировое признание получили анатомо-физиологические работы В.М. Бехтерева, исследовавшего морфологию высших отделов нервной системы и создавшего учение о проводящих путях головного и спинного мозга. В трудах В.М. Бехтерева вопросы морфологии теснейшим образом связаны с проблемами физиологии, клинической неврологии и психиатрии. В конце 19 в. было начато морфологическое изучение интероцепторов: А.С. Догелем с учениками была изучена иннервация органов, описаны многие нервные окончания в тканях и органах позвоночных.
Открытие В. Рентгеном Х-лучей очень быстро было использовано русскими анатомами для изучения анатомии живого организма. Уже в 1896 г. этот метод применил В.Н. Тонков, а П.Ф. Лесгафт в 1897 г. опубликовал данные о строении суставов и внутренних органов, полученные с помощью рентгеновских лучей. В начале 20 в. некоторые кафедры анатомии располагали первоклассной по своему времени оптикой и рентгенографическими кабинетами.
Отцом русской физиологии по праву считается И.М. Сеченов. С его многогранной деятельностью связано возникновение крупнейшей физиологической школы и развитие основных направлений в отечественной физиологии. В 1862—1863 гг. он открыл явление центрального торможения и обосновал рефлекторную природу психических процессов. Исследования И.М. Сеченова внесли весомый вклад во многие разделы физиологии. Так, его идеи лежат в основе сравнительной, возрастной и эволюционной физиологии. С его классических исследований по выявлению закономерностей растворения, связывания и транспорта кислорода и двуокиси углерода началось изучение газообмена животных и человека. И.М. Сеченовым разработаны методы изучения газообмена и его измерений при мышечной активности, дано объяснение причин смерти людей в условиях резкого понижения атмосферного давления и кислородного голодания. Эти работы явились основой для последующего развития авиационной физиологии и авиационной медицины. Наконец, с исследований И.М. Сеченовым рабочих движений человека и восстановления работоспособности утомленного организма возникла и нашей стране специальная отрасль знаний — физиология трудовых процессов. Многочисленные ученики и последователи И.М. Сеченова развили идеи своего учителя в самых разнообразных областях физиологии и медицины.
Во второй половине 19 в. в России начала интенсивно развиваться электрофизиология. В 1876 г. В.Я. Данилевский провел опыты по регистрации биоэлектрических явлений в головном мозге собаки. В 1882 г. И.М. Сеченов сообщил, что в ц.н.с. с помощью электроизмерительного прибора можно зарегистрировать периодические ритмические колебания электрического потенциала, позволяющие изучать процессы возбуждения и торможения. В 80-е гг. 19 в. ученик И.М. Сеченова Б.Ф. Вериго открыл явление католической депрессии и на основе своих электрофизиологических исследований развил представление о скачкообразном (прерывистом) механизме передачи возбуждения, которое более чем на полвека предвосхитило современные концепции об аккомодации и резистентности физиологического субстрата; другой ученик И.М. Сеченова — И.Р. Тарханов показал, что психическая деятельность может вызвать появление биотоков. Ученик И.Р. Тарханова В.Ю. Чаговец обосновал ионную теорию происхождения биоэлектрических потенциалов и конденсаторную теорию раздражения. Применив в начале 20 в. струнный гальванометр, А.Ф. Самойлов ввел в России электрокардиографию как метод физиологического и клинического исследования и внес много ценного в понимание рефлекторной деятельности спинного мозга и функций нервно-мышечного аппарата. В.В. Правдич-Неминский заложил основы электроэнцефалографии. Электрофизиологические. исследования позволили понять природу основных физиологических процессов и вскрыть общие закономерности взаимоотношения возбуждения и торможения. И.Ф. Цион выдвинул гипотезу об органической связи возбуждения и торможения, объясняющую торможение как эффект взаимодействия (интерференции) разных возбуждений. Экспериментально исследуя закономерности реагирования тканей на различные раздражители, Н.Е. Введенский развил учение об оптимуме и пессимуме раздражителя, представление о парабиозе и монистическую теорию нервных процессов, открыл закон функциональных лабильности тканей.
Законы, открытые Н.Е. Введенским на нервно-мышечном препарате, оказались приложимыми и к ц.н.с. В 1874 г. ученик И.М. Сеченова П.А. Спиро (1844—1893) показал, что учение о взаимопереходе процессов возбуждения и торможения дает возможность раскрыть природу согласованной работы антагонистических мышц — сгибателей и разгибателей. В своей работе «О взаимных отношениях между психомоторными центрами» (1896) Н.Е. Введенский за год до Г. Геринга и Ч. Шеррингтона впервые установил значение сопряженного торможения в одних мышцах при возбуждении других и тем самым установил факты взаимосочетанной, или, как позднее стали обозначать, реципрокной, иннервации мышц-антагонистов.
Дальнейшее развитие идей Н.Е. Введенского о лабильности и парабиозе было осуществлено его ближайшим учеником А.А. Ухтомским в учении об усвоении ритма и о доминанте как рабочем принципе нервных центров (1923). Созданная Н.Е. Введенским крупная школа отечественных физиологов продолжала разработку его идей уже в годы Советской власти.
Самостоятельная физиологическая школа сформировалась в Харьковском университете. В 1862 г. И.П. Щелков (1833—1909) создал первую на Украине физиологическую лабораторию и организовал исследования по проблемам физиологии газов крови и газообмена, физиологии и биохимии мышечной системы, физиологии нервной системы и сравнительной физиологии. Ученик И.П. Щелкова В.Я. Данилевский экспериментально установил влияние раздражения различных участков коры головного мозга на дыхание и кровообращение, открыл явление суммирования эффекта торможения сердца, был пионером физиологического изучения гипноза.
Большой вклад в развитие отечественной физиологии внесла казанская физиологическая школа, создавшая оригинальное направление, объединившее физиологические и гистологические методы исследования жизнедеятельности организма и рефлекторной регуляции вегетативных функций. Исследованиями Ф.В. Овсянникова, Н.О. Ковалевского, Н.А. Миславского и их учеников были выявлены центральные механизмы рефлекторной регуляции деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. В совместных работах В.М. Бехтерев и Н.А. Миславский показали, что от коры головного мозга отходят волокна, способные передавать возбуждение к сосудодвигательному центру и к сердцу, учащать или замедлять его деятельность, повышать или понижать давление. В коре головного мозга были открыты двигательные центры зрачка, мочевого пузыря, влагалища, некоторых отделов пищеварительного тракта, секреторные центры слюно- и слезоотделения и т.д.
Одним из самых крупных достижений физиологии второй половины 19 в. явились исследования по рефлекторной регуляции сердечно-сосудистой системы. В 1866 г. И.Ф. Цион в лаборатории К. Людвига открыл депрессорный нерв, рефлекторно изменяющий работу сердца и тонус сосудов. Эта работа была удостоена первой Монтионовской премии Парижской академии наук. В 1883 г. И.П. Павлов установил существование специальных нервных волокон, усиливающих и ослабляющих деятельность сердца. На основании экспериментальных данных И.П. Павлов пришел к выводу, что открытый им усиливающий нерв оказывает действие на сердце, изменяя основные функциональные свойства сердечной мышцы (ее возбудимость, проводимость и сократимость). Развивая эти представления, Л.А. Орбели, А.Д. Сперанский и др. в дальнейшем создали учение о трофической функции нервной системы.
Благодаря усилиям В.И. Бехтерева возникла школа невропатологов и психиатров, развернувшая экспериментальные исследования по физиологии головного мозга. Начиная с 90-х гг. на протяжении двух десятилетий В.М. Бехтерев, а затем его ученики, пользуясь методом раздражения, установили влияние различных участков коры полушарий мозга на вегетативные функции. Другим направлением физиологических исследований школы В.М. Бехтерева было изучение биоэлектрических явлений. Исследованиями его учеников было установлено, что биоэлектрические явления неодинаково выражены в различных областях головного мозга и зависят от характера внешнего воздействия и деятельности мозга. Наконец, большое значение имели исследования В.М. Бехтерева и его сотрудники в области высшей нервной деятельности. Совместно с сотрудниками им была разработана методика сочетательно-двигательных рефлексов, с помощью которой было установлено влияние коры головного мозга на деятельность внутренних органов, доказано, что двигательные поля коры головного мозга являются основой индивидуально приобретенных заученных движений. Метод сочетательно-двигательных рефлексов был внедрен В.М. Бехтеревым и его учениками (М.И. Аствацатуровым, В.П. Осиповым, В.П. Протопоповым и др.) в невропатологию и психиатрию.
Наибольшее влияние на развитие М. оказали исследования И.П. Павлова. До И.П. Павлова в экспериментальной М. господствовали метод острого вивисекционного опыта и аналитический подход к исследованию функций организма. Изучение деятельности тех или иных органов проводилось при нарушении нормальных связей между ними и окружающей средой. Такой подход не позволял раскрыть законы деятельности целостного организма в естественных условиях. Предложенная И.П. Павловым методика оперативного вмешательства с широким применением фистул позволила осуществлять в относительно нормальных условиях постоянное наблюдение над функциями различных органов.
В 1879 г. И.П. Павлов впервые в истории физиологии осуществил постоянную фистулу протока поджелудочной железы, обеспечившую получение панкреатического сока у здорового животного. Позднее он предложил операцию хронической фистулы желчного протока. В 1889 г. И.П. Павлов совместно с Е.О. Шумовой-Симановской (1852—1905) поставил опыт с мнимым кормлением на эзофаготомированных животных, имевших фистулу желудка. Этот опыт позволил изучить влияние акта еды отдельно от влияний, связанных с пребыванием и перевариванием пищи в пищеварительном тракте. Впоследствии эта операция была использована И.П. Павловым для получения чистого желудочного сока в лечебных целях. В 1894 г. И.П. Павлов создал метод наблюдения за желудочной секрецией путем оперативного отделения от желудка малого желудочка, полностью сохраняющего нервные связи. С помощью новых методов физиологических операций И.П. Павлов с предельной четкостью показал ведущую роль нервной системы в регуляции пищеварения и установил основные закономерности функционирования пищеварительной системы. За эти работы ему в 1904 г. была присуждена Нобелевская премия.
При изучении рефлекторной регуляции деятельности желез пищеварительного тракта И.П. Павлов обратил особое внимание на факт «психической секреции», вызываемой пищевыми раздражителями, находящимися на расстоянии от животного. Проведенные эксперименты с наложением фистулы протоков слюнных желез привели И.П. Павлова к выводу о рефлекторной природе «психической секреции» и о непостоянном (временном или условном) характере этого рефлекса. В 1903 г. он впервые дал определение условного и безусловного рефлекса и показал, что условный рефлекс следует рассматривать как такое элементарное психическое явление, которое вместе с тем является и физиологическим явлением. Поэтому метод условного рефлекса раскрывает механизм наиболее совершенных форм реагирования животных и человека на воздействие окружающей среды, дает возможность объективного изучения жизнедеятельности целостного организма и психической деятельности. В качестве ведущей методологической основы изучения закономерностей жизнедеятельности организма И.П. Павлов выдвинул три принципа рефлекторной теории: принцип детерминизма, принцип анализа и синтеза и принцип структурности.
Экспериментальные данные И.П. Павлова и его учеников показали, что условные рефлексы формируются в коре головного мозга, которая является «распорядителем и распределителем всей деятельности организма» и обеспечивает его наиболее тонкое уравновешивание в окружающей среде, что любой агент внешнего мира может путем сочетания во времени с безусловным рефлексом стать сигналом для образования условного рефлекса. В связи с открытием этого универсального положения павловские лаборатории перешли к опытам по изучению «искусственных условных рефлексов». В 1906—1915 гг. были открыты генерализация условного рефлекса и основные виды коркового торможения (внешнее, условное, дифференцировочное, последовательное и запаздывающее), сформулирован закон зависимости величины условного рефлекса от силы условного раздражителя. К разработке основных закономерностей деятельности головного мозга И.П. Павлов привлек большой коллектив физиологов, составивший самую крупную физиологическую школу в нашей стране.
Развитие общей и физической химии создало возможности для изучения физико-химической сущности биологических и физиологических процессов. Уже И.М. Сеченов, В.В. Пашутин, И.Р. Тарханов и другие физиологи уделяли много внимания биохимическим исследованиям состава крови, газообмена в организме и т.д. В начале 60-х гг. оформляется в самостоятельную область исследования и самостоятельный предмет преподавания физиологическая химия. Одним из создателей отечественной биохимии справедливо считают А.Я. Данилевского. Его многочисленные исследования посвящены главным образом протеолитическим ферментам, химии белка, азотистому и фосфорному обмену, питательной ценности белков различных пищевых продуктов. А.Я. Данилевский предложил и с успехом применил метод избирательной адсорбции для разделения и очистки ферментов поджелудочной железы: установил раздельное существование трипсина и амилазы, указал на наличие в клетках агентов, стимулирующих действие ферментов, а в 1901 г. привел доказательства наличия в тканях антиферментов (антитрипсина и антипепсина). А.Я. Данилевский показал возможность синтеза белковоподобных веществ из пептонов при участии ферментов, доказал, что один и тот же фермент способен осуществлять и реакции распада, и реакции синтеза. Распространяя свой метод исследования на различные ткани и органы, А.Я. Данилевский показал общность их химической конституции, в основе которой лежат белковые комплексы. Важную роль в изучении проблем биохимии пищеварения сыграли работы Е.С. Лондона по вопросам расщепления и всасывания белков в кишечнике и разработанный им метод ангио- и органостомии, а также исследования А.Д. Булыгинского по биохимии желчных кислот. В 1880 г. Н.И. Лунин доказал необходимость в пище особых жизненно важных для организма веществ, которые впоследствии были открыты польским ученым К. Функом и названы витаминами.
Выполненные в 90-х гг. 19 в. работы И.П. Павлова, М.В. Ненцкого и И.А. Залесского (1868—1932) по изучению строения гемоглобина до сих пор являются классической основой современных знаний по химии порфириновых пигментов. М.В. Ненцкий внес определенный вклад в создание теории β-окисления жиров. Ему принадлежит приоритет в открытии гемопирола и установлении родственной связи между дыхательными пигментами животных и хлорофиллом растений. Это открытие, дополненное расшифровкой В.И. Палладиным механизма биологического окисления (переноса водорода), лежащего в основе дыхания как растительных, так и животных клеток, и в дальнейшем выявлением Д.Н. Прянишниковым аналогии между процессами азотистого обмена у растений и животных, имело первостепенное значение для доказательства единства процессов жизнедеятельности у животных и растений.
Работы Д.Н. Прянишникова по белковому обмену растений, создание А.Н. Бахом перекисной теории медленного окисления, работы русских ученых по фотосинтезу, адсорбционная хроматография М.С. Цвета, признанная во всем мире как метод анализа органических веществ, открытие ряда экстрактивных веществ на кафедре В.С. Гулевича, установление И.П. Павловым, А.Я. Данилевским и М.В. Ненцким в серии совместных исследовании места образования мочевины в организме и др. обеспечили отечественной биохимии мировое признание.
В конце 19 — начале 20 в. в России были проведены первые экспериментальные исследования в области эндокринологии. Ученик В.В. Пашутина А.В. Репрев впервые сформулировал ряд положений о внутренней секреции. В 1901 г. Л.В. Соболев в результате анализа экспериментального материала пришел к выводу, что островки Лангерганса являются органами внутренней секреции и имеют непосредственное отношение к углеводному обмену и что изолированное изучение химизма островков Лангерганса дает ключ к рациональной органотерапии сахарного диабета. Работа Л.В. Соболева не получила поддержки. Лишь спустя 25 лет Ф. Бантинг и Ч. Веет выделили из островков Лангерганса инсулин.
В отечественной патологической анатомии второй половины 19 — начала 20 в. получили развитие экспериментальное и анатомо-клиническое направления. Оба направления исходили из идеи целостности организма и анатомо-функциональных представлений. В 1849 г. в Московском университете была создана первая в России кафедра патологической анатомии, которую возглавил А.И. Полунин, ставший одним из создателей анатомо-клинического направления. А.И. Полунину принадлежит ряд работ по патологической анатомии туберкулеза и холеры, он первый поставил вопрос о необходимости исследования закономерностей процесса выздоровления. Дальнейшее развитие анатомо-клинического направления связано с деятельностью создателя московской школы патологоанатомов М.Н. Никифорова, которому принадлежат ценные исследования по морфологии воспаления; он автор капитального отечественного учебника по патологической анатомии. Школа, созданная М.Н. Никифоровым (А. И. Абрикосов, И.В. Давыдовский и др.), внесла большой вклад в разработку проблем патологии, общей и частной патологической анатомии.
Анатомо-клиническое направление патологической анатомии характеризует также работу кафедр в Казани, где особенно велика была роль Е.Ф. Аристова (1806—1875). Первый профессор кафедры патологической анатомии Харьковского университета, открытой в 1863 г., Д.Ф. Лямбль описал простейших, вызывающих воспалительные изменения в двенадцатиперстной кишке (лямблии). Ему же принадлежит описание реактивных соединительнотканных разрастаний на аортальных клапанах. Киевский патолог Г.Н. Минх изучал морфологию, этиологию и патогенез сибирской язвы и проказы. Его преемник В.К. Высокович работал в области изучения инфекционного процесса. Его экспериментальные работы и наблюдения над бактериями, введенными в кровь, легли в основу учения о ретикулоэндотелиальной системе. Руководителем первой кафедры патологической анатомии в Петербурге (с 1867) и создателем крупной школы патологоанатомов экспериментального направления был М.М. Руднев. Основное направление его исследований — экспериментальное изучение патогенеза болезней. В 1875 г. М.М. Руднев впервые в истории мировой науки применил для диагностических целей биопсию. М.М. Рудневым выполнены первые работы по экспериментальной онкологии, в частности, он первый указал на значение в развитии опухолей прилежащей к ним соединительной ткани. Идеи М.М. Руднева были развиты его учеником М.А. Новинским, разработавшим метод и впервые в мире в 1876 г. осуществившим трансплантацию опухолей на собаках. В дальнейшем перевивкой опухолей успешно занимались П. Эрлих — в Германии и Н.Н. Петров — в России. Отечественные патологоанатомические школы, стремившиеся к тесной связи с клиникой и применявшие экспериментальный метод исследования, сыграли большую роль в развитии материалистических тенденций в русской М.
Экспериментальный метод и физиологическое направление во второй половине 19 в. проникли и в область патологии и обусловили возникновение в 60—70-х гг. 19 в. новой медицинской науки — патологической физиологии. В России вплоть до 80-х гг. 19 в. эта область М. была неразрывно связана с клиническими дисциплинами, патологической анатомией и нормальной физиологией. Благодаря этой связи отечественная патологическая физиология, или, как ее обычно называли, общая патология, формировалась на основе передовых идей, развитых корифеями отечественного естествознания и М. (идея целостности (организма, представление о неразрывной связи организма с окружающей средой). Выдающиеся отечественные клиницисты П.И. Пирогов, С.П. Боткин, Г.А. Захарьин, А.А. Остроумов и др. не только развили передовое для своего времени учение о болезни, но и начали разработку ряда проблем, ставших впоследствии ведущими для патологической физиологии.
Выдающаяся роль в развитии общей патологии принадлежит И.И. Мечникову. Изучение физиологии клетки последовательно привело его к созданию сравнительной патологии. Исследования И.И. Мечникова показали, как с повышением организации животных форм в процессе эволюции фагоцитозно-пищеварительная функция меняет свое назначение, переходит от преимущественно пищеварительного приспособления к приспособлению защитного характера. Т.о., исследования внутриклеточного пищеварения стали источником построения учения о фагоцитозе и фагоцитарной теории иммунитета. Одновременно И.И. Мечников показал, как основное звено процесса воспаления — фагоцитоз — по мере совершенствования общей организации животных все более сложно связывается с различными функциональными механизмами высокоразвитых существ, обладающих многообразными связями с внешним миром через нервную систему. Именно такая эволюционная трактовка воспалительных реакций, составляющая сущность его теории воспаления, и послужила основой для развития учения о реактивности организма, на базе которого развивается современная общая и экспериментальная патология.
Развитие экспериментального метода в биологии и М. привело во второй половине 19 в. к формированию крупных отечественных школ патологов с ярко выраженным экспериментально-физиологическим направлением. Впервые физиологические экспериментальные методы были широко применены для изучения проблем патологии учеником И.М. Сеченова В.В. Пашутиным. Организовав кафедру общей патологии с экспериментально-физиологическим уклоном сначала на медицинском факультете Казанского университета (1874), а затем в Петербургской медико-хирургической академии (1879), он создал первую крупную отечественную школу патофизиологов: П.М. Альбицкий, А.В. Репрев, Е.А. Карташевский, Н.Г. Ушинский (1863—1934), Н.В. Веселкин и др. В.В. Пашутин и его ученики при помощи разработанных ими методов калориметрического исследования газового обмена у человека и животных исследовали обмен веществ, теплообмен и газообмен при различных формах голодания и других патологических состояниях организма и таким образом заложили основы научного решения этих проблем.
Во многом способствовал прогрессу патологической физиологии в дореволюционной России профессор Московского университета А.Б. Фохт, который широко применил экспериментально-физиологические методы для изучения патологии сердца и сосудов, водного обмена и почек. А.Б. Фохт положил начало московской школе патологов, многие из представителей которой заняли кафедры общей патологии (А.И. Тальянцев, Г.П. Сахаров, Ф.А. Андреев — в Москве, В.К. Линдеман — в Киеве и др.). Крупная школа патологов была создана профессором В.В. Подвысоцким в Киевском и Одесском университетах, а также в организованном им отделе общей патологии института экспериментальной медицины в Петербурге. В.В. Подвысоцким и его учениками (И.Г. Савченко, Л.А. Тарасевич, Д.К. Заболотный, А.А. Богомолец и др.) были проведены исследования в области этиологии и патогенеза новообразований, микробиологии, иммунитета и патологии инфекций. Большой заслугой В.В. Подвысоцкого является создание руководства «Основы общей и экспериментальной патологии», выдержавшего четыре издания и переведенного на французский, немецкий, греческий и японский языки.
Важное направление в патологии создано Е.С. Лондоном, который начал заниматься радиобиологией в 1903 г., когда изучение биологического действия ионизирующей радиации только зарождалось. В 1911 г. он опубликовал первую в мировой литературе монографию по радиобиологии, снабженную сводной литературных данных и результатов собственных исследований. Второй важной проблемой, разрабатывавшейся Е.С. Лондоном и его сотрудниками, была физиология и патология пищеварения. Этими исследованиями были вскрыты закономерности химических превращений, претерпеваемых пищей при прохождении через желудочно-кишечный тракт, и процессов всасывания в условиях экспериментально вызванной патологии.
Отечественным ученым принадлежит приоритет в разработке проблем оживления организма. В 1902 г. А.А. Кулябко при помощи аппарата, восстанавливающего условия раздражения и питания сердечной мышцы, впервые оживил сердце человека (через 20 ч после смерти). В 1912 г. Ф.А. Андреев получил удачные результаты оживления организма животного.
Значительный вклад в развитие экспериментальной фармакологии внесли проведенные в Дерптском университете работы Р. Бухгейма. Одним из идейных создателей клинической фармакологии по праву считается С.П. Боткин. Исследования И.П. Павлова, проведенные еще в лаборатории С.П. Боткина, способствовали созданию творческой связи фармакологии с физиологией, внедрению в фармакологию физиологических методов исследования. Позднее И.П. Павлов постоянно интересовался проблемами фармакологии. Под его непосредственным руководством было проведено изучение фармакологического действия препаратов брома и кофеина на ц.н.с., а также действие алкоголя, горечей, кислот и щелочей на пищеварительную систему. Из школы И.П. Павлова вышел крупный советский фармаколог В.В. Савич. Выдающимся отечественным фармакологом-экспериментатором, создавшим крупную фармакологическую школу, был Н.П. Кравков. Он разработал теорию фазового действия лекарственных средств, подтвержденную клиническими наблюдениями. Для изучения проблемы функциональных изменений органов при патологии Н.П. Кравков прибегнул к методу изолированных органов, что привело его к целому ряду открытий в области эндокринологии, патологии и фармакологии. Н.П. Кравкову принадлежит большая заслуга в изучении комбинированного действия лекарств. Многочисленные ученики Н.П. Кравкова — С.В. Аничков, В.В. Закусов, М.П. Николаев и др. внесли большой вклад в развитие советской фармакологии.
Клиническая медицина во второй половине 19 в. развивалась под влиянием общего прогресса естествознания, передовых идей революционных демократов и русского естественнонаучного материализма. Исходя из представлений о единстве всех отраслей естествознания и рассматривая М. как его неотъемлемую часть, передовые представители русской общественной и естественнонаучной мысли считали, что только на основе внедрения достижений естественных наук практическая М. может познать причины болезней и успешно решать вопросы их предупреждения и лечения: «... Медицина, — писал Д.И. Писарев, — есть практическое преломление сведений, добытых из области различных естественных наук. Физиология и анатомия, химия и ботаника, зоология и физика приносят ей свои результаты. Благодаря им она сможет все больше и больше изучать нормальный процесс различных отправлений человеческого организма, понимать патологические изменения в нем, изучить причины их и находить средства предотвращать эти уклонения или исправлять зло, когда оно уже сделано». Эти позиции полностью разделяли классики отечественной М., стремившиеся поставить клиническую М. на прочный фундамент естественнонаучных знаний. «В клинике, — говорил С.П. Боткин во вступительной лекции к курсу внутренних болезней, — вы должны научиться рациональной практической медицине, которая занимает одно из самых почетных мест в ряду естествознания. А если практическая медицина должна быть поставлена в ряд естественных наук, то понятно, что приемы, употребляемые в практике для исследования, наблюдения и течения больного, должны быть приемами естествоиспытателя... Знания физики, химии, естественных наук... составляют наилучшую подготовительную школу к изучению научной практической медицины».
Достижения химии и биологии, физиологии и патологической анатомии позволили углубить и конкретизировать представления о сущности патологического процесса, дали новый убедительный материал для подтверждения традиционных для отечественной клинической М. принципов о целостности всех реакций организма, которая обеспечивается регулирующей и координирующей деятельностью нервной системы, и о неразрывной связи организма и окружающей среды. Руководствуясь этими принципами, отечественные клиницисты второй половины 19 в. считали, что болезнь «исключительно всегда обусловливается внешней средой» (С.П. Боткин) и «неправильностями жизни» (Г.А. Захарьин), что сущность болезни состоит в нарушении физиологического равновесия («рассогласованности деятельности», А.А. Остроумов) организма, что основной задачей врача является выявление характера и непосредственных причин этой «рассогласованности» («... узнать причину болезни человека в среде», А.А. Остроумов). Лишь на этой основе и с учетом особенностей организма каждого конкретного больного может быть назначено правильное лечение. Признавая важное значение патологической анатомии для клинической М., ведущие отечественные клиницисты не попали в плен ограниченных анатомо-локалистических представлений, которые под влиянием целлюлярной патологии Р. Вирхова были преобладающими в европейской М. Исходя из идеи о целостности всех реакций организма, в полном соответствии с функциональной направленностью исследований передовых русских морфологов, патоморфологов и патологов, с достижениями русской физиологии, они отстаивали и развивали положение о том, что любая болезнь поражает организм в целом. Болезнь, говорил А.А. Остроумов, гнездится не в органе, а «глубже, во всем организме», «...несоответствие между величиной анатомического поражения и функциональной способностью организма наблюдается во всех болезнях». Эти принципы, признание биологического единства физиологического и патологического процессов обусловили возникновение в русской клинической М. синтетического функционального направления, получившего позднее название нервизма. С развитием этого направления связаны основные достижения отечественной клинической М. во второй половине 19 — начале 20 в. Особенно яркое выражение это направление получило в клинике внутренних болезней, которая занимала центральное положение в М. на протяжении большей части ее исторического развития. Определяющую роль в развитии внутренней М. во второй половине 19 — начале 20 в. сыграли две крупнейшие русские клинические школы: С.П. Боткина, сформировавшаяся в Петербурге, в Военно-медицинской академии (ВМА), и Г.А. Захарьина — в Московском университете.
С.П. Боткина справедливо считают основоположником научного направления в отечественной клинической М. Ему и его клинической школе в первую очередь обязана отечественная М. последней трети 19 — начала 20 в. своим функциональным клинико-экспериментальным направлением. Для его научной и практической деятельности характерно сочетание широкого внедрения в клиническую М. достижений и методов естественных наук (в т.ч. эксперимента) с тонкой наблюдательностью, виртуозным владением методами клинического обследования больного и редким умением анализировать и сопоставлять клинические данные. Сознавая ограниченные возможности современной ему клинической М., он стремился к их расширению не только путем совершенствования объективных методов обследования (пальпация, перкуссия, аускультация, измерение температуры тела), развития семиотики внутренних болезней, выявления клинико-анатомических корреляций, но и с помощью экспериментального изучения патологических состояний и фармакологического эффекта различных лекарственных средств. «Глубокий ум его, — писал об С.П. Боткине И.П. Павлов, — не обольщаясь ближайшим успехом, искал ключи к великой загадке: что такое сольной человек и как помочь ему — в лаборатории, в животном эксперименте». В лаборатории С.П. Боткина Я.Я. Стольниковым был впервые (1879) осуществлен опыт наложения зажимов на почечную артерию, открывший возможность изучения в эксперименте ренальной гипертензии, под руководством И.П. Павлова изучались фармакологические свойства атропина, горицвета, ландыша, наперстянки, кофеина и других лекарственных средств. Вместе с тем С. П. Боткин был противником экспериментов на больных, поскольку «медицина наша еще не стоит на почве точной науки и всегда надо иметь в виду тот спасительный страх, чтобы не повредить больному».
Влияние реформаторской деятельности С. П. Боткина было огромным. Из учеников С.П. Боткина (их было свыше 100) 45 возглавили клинические кафедры в различных университетах России); основные идеи боткинской школы развивали многие выдающиеся клиницисты — А.А. Остроумов в Москве, Н.А. Виноградов в Казани, В.П. Образцов в Киеве и др. Некоторые ученики С.П. Боткина стали основоположниками оригинальных школ в других, в т.ч. клинических. специальностях и развивали идеи своего учителя применительно к другим отраслям клинической М.
Одновременно с боткинской сформировалась самобытная московская клиническая школа Г.А. Захарьина, для которой было характерно преобладание интересов врачебной практики над «чисто научными» интересами. В совершенстве владея данными современной ему медицинской науки (об этом свидетельствует, например, его позиция в вопросе об учреждении в Московском университете кафедры медицинской бактериологии), поручая сотрудникам лабораторные, в т.ч. экспериментальные, научные исследования, используя в клинике все необходимые методы объективного исследования больного. Г.А. Захарьин уделял преимущественное внимание непосредственному врачебному обследованию, и особенно анамнестическому методу. С этим, в частности, связана исключительная популярность Г.А. Захарьина среди земских врачей, не располагавших возможностями лабораторного исследования. В клинике Г.А. Захарьина расспрос больного был доведен до высоты искусства. Те, кому посчастливилось слушать лекции Г.А. Захарьина, присутствовать на разборах больных, сохранили о них восторженные впечатления; об этом, в частности, свидетельствуют воспоминания А.И. Бабухина, А.П. Чехова, С.И. Мицкевича и др. Г.А. Захарьин защищал принципы этиологической и патогенетической терапии, вводил в практику новые лекарства; он пользовался безграничным врачебным авторитетом.
Как и его предшественники (С.Г. Зыбелин, М.Я. Мудров) Г.А. Захарьин был ярким представителем профилактического направления в отечественной клинике внутренних болезней. Разработанная им система расспроса позволяла выяснить образ жизни больного, климат местности, где он проживает, условия его труда и быта. Врачебным советам гигиенического характера Г.А. Захарьин часто придавал большее значение, чем собственно лечебным рекомендациям. В своей актовой речи «Здоровье и воспитание в городе и за городом» (1873) он говорил: «Чем зрелее практический врач, тем более он понимает могущество гигиены и относительную слабость лечения... Победоносно спорить с недугами масс может лишь гигиена». Он считал «за счастье для ребенка, если до десяти лет ему вовсе не приходится жить в городе».
Прогрессивные взгляды по проблемам организма как единого целого и его взаимоотношения с окружающей средой, здоровья и болезни, роли наследственности и среды в их формировании ярко отражены в «Клинических лекциях» А.А. Остроумова, оказавших большое влияние на формирование научного мировоззрения целого поколения отечественных клиницистов. Развивая функциональное клинико-биологическое направление в клинике внутренних болезней, А.А. Остроумов придавал особое значение конституциональным особенностям организма и наследственности как факторам, которые часто играют определяющую роль в формировании той или иной патологии. Вместе с тем он подчеркивал, что «Цель клинического исследования — изучить условия существования человеческого организма в среде, условия приспособления к ней и расстройства. Предметом нашего изучения служит больной человек, нормальная жизнь которого нарушена условиями его существования в среде». Здесь А.А. Остроумов выступает прямым последователем С.П. Боткина. Отмечая значение этой позиции, один из основоположников советского здравоохранения З.П. Соловьев говорил: «... Здесь устанавливается именно то, что нам сейчас так необходимо и что иначе не назовешь, как синтез лечебной и профилактической медицины». Этой же позицией определялся индивидуальный подход к больному, а также дальнейшее (вслед за Г.А. Захарьиным) развитие А.А. Остроумовым анамнестического метода.
С конца 19 в. центрами научной разработки проблем внутренней М., наряду с клиниками ВМА и университетов, становятся многие крупные больницы: Обуховская в Петербурге, Александровская в Киеве (ее терапевтическим отделением заведовал В.П. Образцов; ныне Октябрьская клиническая больница), Солдатенковская в Москве (ныне больница им. С.П. Боткина), ряд больниц Одессы, Казани, Харькова и других городов. Исключительную роль в формировании научной терапевтической мысли сыграли основанные С.П. Боткиным периодические издания — «Архив клиники внутренних болезней» (1869—1889) и «Еженедельная клиническая газета» (1881—1889). переименованная после его смерти в «Больничную газету Боткина», которая выходила до 1903 г. как орган петербургских больниц под редакцией М.М. Волкова — ученика С.П. Боткина.
Отечественными клиницистами внесен значительный вклад в разработку проблем семиотики, диагностики и лечения внутренних болезней. С.П. Боткин описал постсистолический шум при стенозе устья левого венозного отверстия; указал, что при недостаточности аортальных клапанов диастолический шум может выслушиваться справа от грудины в III—IV межреберьях (точка Боткина); дал клиническое описание поражения сердца при артериосклерозе; исчерпывающе описал клинику подвижной почки; указал на инфекционную природу катаральной желтухи (вирусного гепатита) и отметил, что это заболевание может привести к циррозу печени. В 1867 г. С.П. Боткин высказал идею об активности артериального и венозного кровообращения, развитую в дальнейшем его учеником М.В. Яновским в учение о периферическом сердце. В первом десятилетии 20 в. под руководством М.В. Яновского была проведена серия работ клинико-экспериментального характера по проблеме сосудистого тонуса и периферического кровообращения, в т.ч. с применением открытого в 1905 г. Н.С. Коротковым звукового метода определения АД В.Н. Сиротининым и Н.Г. Куковеровым был описан аускультативный симптом (систолический шум при закинутых за голову руках) атеросклеротического и сифилитического поражения аорты. Петербургский терапевт В.М. Керниг вслед за С.П. Боткиным описал (1904; менее подробно — в 1882) шум трения перикарда при грудной жабе и объяснил происхождение этого симптома тем, что обусловленный коронарным тромбозом «очаг размягчения достигает до перикарда». Л.В. Попов (1845—1906) показал, что при высоких степенях стеноза левого венозного устья иногда наблюдается разница в пульсе обеих лучевых артерий (pulsus differens). Г.А. Захарьиным разработана клиническая семиотика сифилиса сердца, дифференциальная диагностика легочного туберкулеза и сифилитической пневмонии, развито учение о зонах кожной гиперестезии при заболеваниях внутренних органов (зоны Захарьина — Геда). В.П. Образцов, который наряду с Ф.Г. Яновским является основоположником крупной киевской школы терапевтов, в 1909 г. выступил на 1 съезде российских терапевтов с докладом, подготовленным совместно с его учеником и сотрудником Н.Д. Стражеско, где было дано классическое описание клиники инфаркта миокарда, явившееся ключом к прижизненной диагностике заболевания и сохранившее свое значение и сегодня. В.П. Образцов разработал также метод глубокой скользящей пальпации органов брюшной полости, предложил модификации методов перкуссии и аускультации.
Развитие медикаментозной терапии было связано с достижениями химии, обусловившими появление новых лекарств, прежде всего, жаропонижающих средств. До 50-х гг. основными антипиретиками служили калийные соли и хинин. Во второй половине 19 в. появились каирин, таллин, антифебрин, антипирин; врачи научились более рационально пользоваться хинином, морфином, кодеином. Фармакологи и клиницисты изучали действие атропина и пилокарпина. Выяснилось, что употреблять белладонну как средство, возбуждающее сердечную деятельность, не только нецелесообразно, но и вредно. Э.Э. Эйхвальд обратил внимание на то, что атропин, парализуя блуждающий нерв, вызывает тахикардию. По предложению С.П. Боткина А.М. Киреев, Н.А. Виноградов и др. прививкой оспы вызывали искусственную лихорадку в целях лечения сифилиса. Одесский врач А.С. Розенблюм в 1874—1875 гг. применил для лечения психозов прививки возвратного тифа.
Большое место отводилось дието- и физиотерапии. Особенно популярно в 19 в. было лечение молоком. Было доказано, что молоко действует мочегонно; молочная диета, молочное лечение с успехом применялись при сердечных и почечных заболеваниях. Во второй половине 19 в. в России получило большое распространение лечение кумысом. В 80-х гг. было положено начало научному изучению минеральных вод с лечебными целями. Особенно значительны в этом отношении труды Г.А. Захарьина; он считал, что не всем больным необходимо выезжать для такого лечения на курорты, иногда вполне достаточно употребление привозных минеральных вод. Все большее внимание стали привлекать отечественные курорты. Климатическое лечение использовали главным образом в случаях заболеваний органов бронхолегочной системы (бронхиты, туберкулез легких). Видные клиницисты считали более правильным направлять больных туберкулезом в близкие их постоянному месту жительства местности с мягким климатом, чистым воздухом.
В Московском университете учениками видного терапевта и патолога В.Д. Шервинского были М.П. Кончаловский, Е.Е. Фромгольд. Здесь же, в госпитальной и факультетской терапевтических клиниках, под влиянием А.А. Остроумова и других видных представителей отечественной внутренней М. складывались научные и врачебные взгляды Д.Д. Плетнева — одного из самых ярких представителей советской клиники внутренних болезней в 20—30-х гг. Учеником М. В. Яновского был основатель крупной ленинградской школы терапевтов Г.Ф. Ланг; учеником В.П. Образцова — Н.Д. Стражеско. Т.о., основоположники клиники внутренних болезней в СССР были прямыми «научными потомками» наиболее прогрессивных и выдающихся деятелей русской внутренней М. конца 19 — начала 20 в.
Начавшийся во второй половине 19 в. процесс дифференциации клинической М. и формирования новых самостоятельных клинических дисциплин протекал в тесной связи с развитием клиники внутренних болезней и при непосредственном воздействии ее признанных лидеров — С.П. Боткина и Г.А. Захарьина. Так, учениками С.П. Боткина были: А.Г. Полотебнов — один из основателей дерматологии и Н.П. Симановский — один из основателей оториноларингологии в России, более 10 его бывших ординаторов возглавили затем кафедры по другим клиническим и теоретическим специальностям. Г.А. Захарьин сыграл важную роль в создании в Московском университете педиатрической клиники Н.А. Тольского и гинекологической клиники В.Ф. Снегирева, его учеником был крупнейший представитель русской педиатрии второй половины 19 в. Н.Ф. Филатов, называвший клинику Г.А. Захарьина своей «путеводной звездой». В 1894 г. в ВМА была организована самостоятельная кафедра инфекционных болезней с бактериологией, которой руководили С.С. Боткин и Н.Я. Чистович. В начале 20 в. труды В.Д. Шервинского заложили основы отечественной клинической эндокринологии.
Традиционный для передовых представителей отечественной М. интерес к изучению анатомии, физиологии и патологии нервной системы способствовал формированию невропатологии и психиатрии как самостоятельных научных клинических дисциплин. Первое в России и одно из первых в мире клинических неврологических отделений было открыто в Новоекатерининской больнице в 1869 г. Его возглавил А.Я. Кожевников (в течение ряда лет работавший под руководством И.В. Варвинского в госпитальной терапевтической клинике Московского университета), создатель крупнейшей московской школы невропатологов (В.К. Рот, Г.И. Россолимо, В.А. Муратов, Л.О. Даркшевич и др.) и основоположник научной невропатологии в России. О материалистическом подходе ученого к проблеме болезни, понимании сущности функциональных нервно-психических расстройств свидетельствует, в частности, следующая интересная мысль, высказанная им во введении к «Курсу нервных болезней» (1892): «Нет сомнений, что и в этих случаях в нервной ткани происходят изменения, но мы не можем открыть их нашими теперешними способами исследования и должны предполагать существование молекулярных изменений...».
По инициативе А.Я. Кожевникова из клиники нервных болезней Московского университета была выделена самостоятельная психиатрическая клиника, размещенная в специально построенном для нее здании (1886: первая в новом университетском клиническом городке на Девичьем Поле). С 1888 г. ею руководил ученик А.Я. Кожевникова С.С. Корсаков, с именем которого связаны не только один из выдающихся приоритетов отечественной науки (алкогольный «корсаковский психоз», как и «кожевниковская эпилепсия», стали общепринятыми в медицинской литературе эпонимическими терминами), но и создание оригинальной школы психиатров (В.П. Сербский, сыгравший исключительную роль в развитии судебной психиатрии, П.Б. Ганнушкин — автор классических работ по клинике «малой» психиатрии и признанный лидер советских психиатров, и др.), формирование материалистического, физиологического, нозологического направления, характерного для отечественной психиатрии.
В петербургской ВМА на кафедре, организованной в 1857 г. (первая в России самостоятельная кафедра психиатрии) М.М. Балинским, которую затем возглавлял И.П. Мержеевский — основатель крупной школы невропатологов и психиатров с характерным эволюционно-биологическим и нейроморфологическим направлением, в 90-х гг. развернулась деятельность В.М. Бехтерева — виднейшего русского невролога конца 19 — первой четверти 20 в., обогатившего мировую науку не только капитальными исследованиями в области морфологии и физиологии мозга, но и ценными работами по клинической невропатологии, психиатрии и психологии. Важную роль в развитии отечественной психиатрии сыграло творчество В.X. Кандинского — автора классического труда «О псевдогаллюцинациях» (1890) и описания синдрома психического автоматизма (синдром Кандинского — Клерамбо).
Продолжая традиции Н.И. Пирогова, обогащаясь достижениями передового естествознания, прежде всего физиологии, совершенствуя методы обезболивания и обеззараживания ран, успешно развивалась отечественная хирургия. Характерная черта этого развития во второй половине 19 в.— внедрение во врачебную практику методов антисептики, асептики — связано с деятельностью Н.В. Склифосовского, С.П. Коломнина, М.С. Субботина, П.П. Пелехина и др.; П.И. Дьяконов указал (1895) на преемственность и принципиальную связь антисептического и асептического методов в хирургии. Характерно, что когда Дж. Листер защищая свой метод от многочисленных нападок, он ссылался именно на опыт русских хирургов, в частности. К.К. Рейера, Н.А. Вельяминова в области военно-полевой хирургии. Крупнейший представитель отечественной хирургии последней четверти 19 в. Н.В. Склифосовский был выдающимся военно-полевым хирургом, автором «русского замка» при ложных суставах и ряда других оригинальных способов оперативного лечения, председателем 1 Пироговского съезда, 1 съезда российских хирургов и XII Международного конгресса врачей в Москве. В речи на 1 съезде Московско-Петербургского общества врачей (будущего Пироговского общества), посвященной проблеме предупреждения раневой инфекции, он дал (в полном согласии с Н.И. Пироговым и Ф.И. Иноземцевым) определение хирургии как «раздела обширной области биологических знаний, который стоит на прочных основах биологии, анатомии, физиологии». Развитие хирургической анатомии, начатое блестящими исследованиями И.В. Буяльского и Н.И. Пирогова, во второй половине 19 в. получило отражение в крупных коллективных руководствах по топографической анатомии и оперативной хирургии, созданных П.И. Дьяконовым и А.А. Бобровым.
В конце 19 в. было положено начало периодическим изданиям хирургического профиля. Первый журнал — «Хирургический вестник» основан в 1885 г. в Петербурге Н.А. Вельяминовым, который обогатил военно-полевую хирургию разработкой системы лечения огнестрельных ран, внедрением во врачебную практику «индивидуального пакета» для оказания первой помощи раненому и был одним из основоположников отечественной артрологии. Журнал выходил под различными названиями свыше 30 лет. В Москве П.И. Дьяконов положил начало журналам «Хирургическая летопись», «Хирургия», многотомному изданию «Русская хирургия». Научные журналы общества способствовали формированию клинического мышления практических врачей. Огромную роль играло создание крупных школ отечественных хирургов во главе с А.А. Бобровым, П.И. Дьяконовым. Однако формирование нового поколения хирургов, с которым связано становление хирургии в СССР (С.П. Федоров, А.В. Мартынов, И.И. Греков, В.А. Оппель и др.), проходило не только в университетских клиниках и на хирургических кафедрах ВМА, но и в земских больницах, наглядным примером чего могут служить научные биографии одного из зачинателей легочной хирургии и трансфузиологии в СССР С.И. Спасокукоцкого, одного из основоположников отечественной урологии П.Д. Соловова и др. Об этой характерной черте русской хирургии говорил П.И. Дьяконов в речи на IX Пироговском съезде (1904): «... Из года в год замечается огромный рост русской хирургии... В сравнительно мелких центрах земские товарищи проявляют удивительную работоспособность, они не только лечат, но и учат, и в этом отношении являются ценным подспорьем для университетов». Н.В. Склифосовский, П.И. Дьяконов, А.А. Бобров и ряд других видных ученых поддерживали тесную связь с хирургами-практиками на местах; сама тематика исследований их клиник нередко определялась запросами земской и фабрично-заводской М.
Успешное развитие клинической М. в России во второй половине 19 — начале 20 в., по многим направлениям выдвинувшейся на передовые рубежи мировой науки, выделение новых самостоятельных клинических дисциплин сопровождалось формированием крупных клинических школ — носителей передовых самобытных традиций отечественной М. Так, развитие ортопедии связано с деятельностью основателей крупных научных школ Г.И. Турнера, возглавившего первую в России (1900) ортопедическую клинику при ВМА, и Р.Р. Вредена — организатора и руководителя первого (1906) ортопедического института в Петербурге; развитие офтальмологии — со школами Е.В. Адамюка, А.Н. Маклакова и А.А. Крюкова в Казани, Москве и т.д. В 1910 г. Н.Н. Петров выпустил в свет первое на русском языке руководство по злокачественным опухолям, которое сыграло большую роль в становлении и развитии отечественной онкологии.
Значительных успехов русская М. добилась в области акушерства и гинекологии. Совершенствовалась хирургическая техника; в 1862 г. А.Я. Крассовский произвел первую в доантисептический период операцию овариотомии с благоприятным исходом. Важную роль сыграл капитальный труд В.Ф. Снегирева «Маточные кровотечения» (1884), переведенный на французский язык и выдержавший несколько изданий. В этой книге, предназначенной для земских врачей, автор изложил простейшие приемы диагностических и терапевтических мероприятий. В.Ф. Снегирев первый применил в гинекологии метод опроса, разработанный Г.А. Захарьиным.
Формированием клинических школ мирового значения отмечено и развитие отечественной педиатрии. В Московском университете Н.Ф. Филатов создал крупную педиатрическую школу клинического «захарьинского» направления, к которой принадлежали Г.Н. Сперанский, В.И. Молчанов и в известной мере А.А. Кисель, сыгравшие исключительную роль в становлении физиологического и профилактического направлений в советской педиатрии. Обладая совершенным даром врачебного наблюдения, Н.Ф. Филатов обогатил семиотику и диагностику детских инфекций ценными открытиями (симптом отрубевидного шелушения эпителия слизистой оболочки рта при кори и др.), создал капитальные клинические руководства по педиатрии, по которым учились поколения детских врачей. В петербургской ВМА последователь С.П. Боткина Н.П. Гундобин, объединив в единый научный коллектив многих детских врачей города, создал анатомо-физиологический труд «Особенности детского возраста — основные факты к изучению детских болезней» (1906), переведенный во многих странах.
Вторая половина 19 в. ознаменовалась развитием новой отрасли естествознания и медицины — бактериологии, или, как ее стали называть позднее, микробиологии. Научные экспериментальные основы этой отрасли знаний были заложены классическими исследованиями Л. Пастера, Р. Коха, И.И. Мечникова и др.
Ко второй половине 19 в. относится развитие микробиологии и в России. Выдающиеся русские ученые Л.С. Ценковский, И.И. Мечников, Г.Н. Габричевский, Н.Ф. Гамалея, Д.К. Заболотный, Л.А. Тарасевич и многие другие внесли большой вклад в развитие микробиологии и эпидемиологии и вошли в историю не только отечественной, но и мировой науки. Выдающуюся роль сыграл И.И. Мечников, который создал большую школу микробиологов и эпидемиологов. Развитие микробиологии и эпидемиологии в России шло в различных направлениях. Для периода, последовавшего за открытиями Л. Пастера и Р. Коха, характерны многочисленные открытия новых микроорганизмов — возбудителей инфекционных болезней: в 1875 г. Ф.А. Леш открыл возбудителя амебной дизентерии, А.В. Григорьев в 1891 г. — один из видов дизентерийной палочки и др.
Русским ученым принадлежит ряд крупных открытий, послуживших основой иммунологии, вирусологии и других разделов микробиологии, которые во второй половине 20 в. стали самостоятельными медико-биологическими науками. Внеся сравнительно-эволюционный принцип в патологию, И.И. Мечников открыл явление фагоцитоза и развил его в стройную фагоцитарную теорию, разработал учение о невосприимчивости к инфекционным болезням, положив начало новой отрасли знаний — иммунологии. Он доказал, что микроорганизму принадлежит активная роль в инфекционном процессе, что защитные свойства организма подчинены общефизиологическим закономерностям. Фагоцитарная теория И.И. Мечникова не сразу получила признание. Ей противопоставлялась гуморальная теория иммунитета, которую наиболее плодотворно развивал П. Эрлих. В итоге оживленных дискуссий. продолжавшихся более 25 лет, была признана ценность обеих теорий. В 1908 г. основатель клеточной теории иммунитета И.И. Мечников и основатель гуморальной теории иммунитета П. Эрлих были удостоены Нобелевской премии. Последующими исследованиями было установлено, что иммунологические реакции организма реализуются и клеточным и гуморальным механизмами.
Важное значение для развития микробиологии и иммунологии имели и другие открытия отечественных ученых. В 1898 г. Н.Ф. Гамалея описал явление бактериолизиса, явившееся прообразом развитого впоследствии учения о бактериофаге. Он же описал бактерийные яды — токсины. В 1894 г. был открыт холерный бактериолизис (Исаева — Пфейффера феномен). Ф.Я. Чистович открыл (1899) явление преципитации, Г.П. Сахаров — явление сывороточной анафилаксии. В.К. Высокович положил начало учению о ретикулоэндотелиальной системе.
Крупнейшим достижением отечественной науки, имеющим мировое значение, является открытие и изучение Д.И. Ивановским фильтрующихся вирусов, положившее начало новой отрасли знаний — вирусологии.
Существенный вклад внесли отечественные врачи в изучение микробиологии и эпидемиологии отдельных бактериальных и паразитарных инфекций и в разработку методов борьбы с ними. Г.Н. Минх и О.О. Мочутковский провели ряд ценных исследований по паразитарным тифам, которыми было доказано, что при возвратном (1874—1876) и при сыпном (1900) тифе носителем болезнетворного начала является кровь. Была высказана мысль о том, что переносят инфекцию кровососущие насекомые. Важное значение имела изготовленная Л.С. Ценковским вакцина против сибирской язвы (1883). Его живая ослабленная вакцина оказалась не менее эффективной, чем сибиреязвенная вакцина Пастера. Исследования Д.К. Заболотного, Н.Н. Клодницкого, И.А. Деминского легли в основу теории природной очаговости чумы и сыграли важнейшую роль в научном обосновании системы государственных мероприятий по ее ликвидации. Н.Ф. Гамалея усовершенствовал метод прививок против бешенства и метод приготовления оспенной вакцины. Г.Н. Габричевский первым в России начал изготовление противодифтерийной сыворотки и совместно с Н.Ф. Филатовым в 1894 г. успешно применил ее для лечения дифтерии. С именами Г.Н. Габричевского и Л.А. Тарасовича связана организация сывороточно-вакционного дела в России. Л.А. Тарасович был инициатором и пропагандистом массового применения вакцинации против кишечных инфекций в годы первой мировой войны. П.Ф. Боровский открыл и изучил возбудителя пендинской язвы (1898). В 1879 г. В.И. Афанасьев (1849—1904) описал патолого-анатомическую картину коматозной малярии, высказал предположение о паразитарном происхождении малярийного пигмента. В 1884 г. В.Я. Данилевский впервые описал возбудителя малярии птиц, а в 1889—1891 гг. Н.А. Сахаров — возбудителя тропической малярии. Большую роль для практического изучения строения возбудителя малярии сыграл предложенный в 1891 г. Д.Л. Романовским метод окраски крови и кровепаразитов.
Глубокий интерес к микробиологии и эпидемиологии и к клинике инфекционных болезней проявляли ведущие отечественные клиницисты: С.П. Боткин, Г.А. Захарьин, А.А. Остроумов, Н.Ф. Филатов и др.
В конце 80-х и начале 90-х гг. в России начали создаваться специальные научные и практические учреждения, занимающиеся вопросами микробиологии и эпидемиологии. В 1886 г. в Одессе по инициативе и при непосредственном участии И.И. Мечникова и Н.Ф. Гамалеи была открыта вторая в мире (после Парижской) бактериологическая станция. Вслед за ней подобные станции — зародыши будущих научно-исследовательских институтов — открываются и в Петербурге, Москве, Харькове, Самаре и др. В 1895 г. по инициативе Г.Н. Габричевского на частные средства был открыт бактериологический институт при Московском университете; в конце 90-х — начале 900-х гг. земские и общественные институты бактериологического профиля были созданы в Одессе, Харькове, Казани, Перми, Томске, Екатеринославе и др. В этих учреждениях изготовлялись вакцины (оспенная — против бешенства), сыворотки против дифтерии и холеры, производились бактериологические анализы. Многие из них стали крупными производственными, научными и педагогическими центрами. Особенно важную роль сыграл открытый в Петербурге институт экспериментальной медицины, выросший из основанной в 1886 г. антирабической станции: в нем работали выдающиеся отечественные ученые — С.Н. Виноградский, В.Л. Омелянский, Д.К. Заболотный, X.И. Гельман (1848—1892), А.А. Владимиров, Н.К. Шульц (1851—1917) и др.
В конце 19 в. в России начали создаваться самостоятельные кафедры микробиологии, которые, помимо подготовки кадров, сыграли также важную роль в развитии научно-практической работы в области микробиологии и эпидемиологии. Самостоятельный курс бактериологии в Московском университете начал читать в 1892 г. Г.Н. Габричевский. Этот курс положил начало кафедре микробиологии Московского университета. В 1894 г. в ВМА была создана кафедра заразных болезней с бактериологией, которую возглавлял С.С. Боткин (1859—1910), а с 1898 г. — Н.Я. Чистович. К этому же времени относится и организация специальных обществ и журналов. В 1897 г. было создано общество микробиологов в Москве, в 1903 г. — в Петербурге. В 1896 г. начал издаваться «Русский архив патологии, клинической медицины и бактериологии» (редактор В.В. Подвысоцкий), в 1910 г. — журнал «Гигиена и санитария» (редактор Н.Ф. Гамалея), уделявший большое место проблемам микробиологии и эпидемиологии, в 1914 г. — «Журнал микробиологии» и др.
Отечественные микробиологи, эпидемиологи и инфекционисты вписали немало героических страниц в историю М., подвергая свою жизнь опасности не только во время борьбы с эпидемиями, но и в ходе исследований, постановкой экспериментов на себе. Г.Н. Минх и О.О. Мочутковский вводили себе кровь больных возвратным и сыпным тифом. Д.К. Заболотный и И.Г. Савченко иммунизировали себя приемом убитых культур холерного вибриона с последующей проверкой принятием живых культур. Г.Н. Габричевский сделал себе пробную прививку приготовленной им скарлатинозной вакцины, которую он затем широко применял в московских больницах. В.А. Хавкин вводил себе противохолерную и противочумную вакцины. Н.Ф. Гамалея проверял на себе безопасность прививок против бешенства. В.В. Фавр подвергал себя заражению посредством укуса малярийного комара. Много замечательных русских врачей погибло при исполнении своего врачебного долга на посту эпидемиолога (И.А. Демшижий, В.И. Турчинович-Выжникевич, М.Ф. Шрейбер и др. — при экспериментальных исследованиях чумы). Героизм, отвагу и самоотверженность проявили отечественные врачи, участвуя в ряде экспедиций по борьбе с эпидемиями за рубежом.
Отличительной чертой отечественной микробиологии и эпидемиологии был их общественный характер. Общественная инициатива и усилия передовых врачей часто играли первостепенную роль в проведении мероприятий по борьбе с эпидемиями. Проблемы микробиологии и эпидемиологии широко обсуждались во врачебных обществах и на съездах, на страницах медицинской печати. Важная роль в истории борьбы с эпидемиями принадлежит обществу русских врачей в память Н.И. Пирогова и его съездам.
Выступления прогрессивных микробиологов и санитарных врачей по вопросам борьбы с эпидемическими болезнями нередко носили политический характер; в них основное внимание уделялось социальной природе заразных болезней. Наиболее ярко такие взгляды проявились накануне революции 1905 г., особенно в деятельности общества русских врачей в память Н.И. Пирогова, председателем которого в 1904—1907 гг. был въедающийся микробиолог Г.Н. Габричевский, в работе чрезвычайного противохолерного съезда 1905 г. и т.п. Однако, несмотря на самоотверженную работу по борьбе с инфекционными болезнями, на успехи в развитии микробиологии и эпидемиологии, санитарно-эпидемическая обстановка в России оставалась напряженной: в 1913 г. заболеваемость сыпным тифом составляла 7,3 на 10 тыс. жителей, возвратным тифом — 1,9, брюшным тифом и паратифами — 26,6, дизентерией — 31,4, дифтерией — 34,4, малярией — 216,6, оспой — 4,4.
Экономические и социальные сдвиги, происходившие в стране в середине 19 в., а также развитие естественных и медицинских наук обусловили значительный прогресс в развитии гигиенической науки. Вспышки эпидемических болезней, антисанитария, высокая заболеваемость и смертность населения были предметом внимания как передовых русских врачей, так и общественных деятелей. «Гигиена — или изучение тех условий, которые необходимы для сохранения здоровья, — писал Д.И. Писарев, — приобретает в настоящее время преобладающее значение в глазах каждого мыслящего и сведущего человека. Совершенное игнорирование гигиены с каждым годом становится менее возможным для всех разнообразнейших отраслей государственного хозяйства». Важную роль в оформлении гигиены как науки в России и в создании ее общественного направления сыграл журнал «Архив судебной медицины и общественной гигиены», выходивший с 1865 г. Сплотив вокруг себя группу передовых врачей-гигиенистов и санитарных деятелей, журнал принял широкую гигиеническую программу; в первые годы своего существования он был центром общественной гигиены в России, проводником гигиенических знаний и организатором санитарной деятельности русских врачей. В нем печатались работы видных общественных деятелей и гигиенистов. С 1874 г. стал выходить основанный А.П. Доброславиным ежемесячный научно-популярный журнал «Здоровье», который ставил своей задачей «... знакомить общество со способами применения гигиены и жизни общественной и частной». В нем наряду с популярными статьями помещались исследования по вопросам гигиены. С первого года издания журнал отстаивал необходимость развития научной гигиены, организации гигиенических лабораторий и подготовки врачей-гигиенистов. Вопросы гигиены занимали видное место в работе многих врачебных обществ.
Наряду с общественными условиями важную роль в формировании гигиены как науки сыграли успехи ряда разделов естествознания — физики, химии, биологии, физиологии, позднее — микробиологии. Задачи оздоровления окружающей человека среды, улучшения условий его жизни и другие вопросы гигиены ставились и прежде. Издавалось немало специальных трудов по гигиеническим вопросам, особенно возросло их число в конце 18 и первой половине 19 вв. Однако труды эти либо затрагивали главным образом вопросы личной гигиены, либо, если и рассматривали вопросы общественной гигиены, то носили преимущественно описательный характер и не всегда содержали научное обоснование предлагаемых мероприятий. Успехи естествознания дали возможность перейти от общих описаний к точному исследованию среды, окружающей человека (воздуха, воды, почвы, пищевых продуктов) и на основе успехов физиологии разрабатывать гигиенические нормативы. Гигиена из описательной науки становилась экспериментальной.
Переход гигиены на экспериментальную почву создал реальные условия для ее оформления в самостоятельную научную дисциплину и для создания самостоятельных кафедр. Советы медицинских факультетов Киевского, Казанского, Харьковского университетов неоднократно выносили решения о целесообразности создания самостоятельной кафедры гигиены и ходатайствовали об этом перед Министерством народного просвещения. Однако ходатайства задерживались и вопрос не решался. Лишь в 1865 г. были учреждены первые в России самостоятельные кафедры гигиены в Киевском университете и Петербургской медико-хирургической академии. В 1868—1869 гг. Министерством народного просвещения было дано официальное разрешение на открытие самостоятельных кафедр гигиены и медицинской полиции во всех университетах. Однако из-за отсутствия подготовленных кадров кафедры гигиены были открыты значительно позже. В 1871 г. начал читать курс гигиены в Медико-хирургической академии А.П. Доброславин и в том же году в Киевском университете — В.А. Субботин. В Харьковском университете самостоятельная кафедра гигиены была основана в 1873 г., первым ее профессором был А.И. Якобий. Большую роль в развитии отечественной гигиены сыграл Ф.Ф. Эрисман, приглашенный в 1881—1882 гг. на созданную кафедру гигиены Московского университета. К концу 19 в. кафедры гигиены имелись почти во всех университетах России.
В деятельности руководителей кафедр гигиены было ярко выражено стремление поставить гигиену на службу общественным задачам оздоровления населения. С первых же дней научно-преподавательской работы А.П. Доброславин, Ф.Ф. Эрисман, В.А. Субботин и др. не ограничивались академической аудиторией, а стремились придать всей гигиенической деятельности общественный характер, связывая ее с запросами широких слоев населения, с общественно-практической санитарной работой. Совместная работа кафедр гигиены с санитарными станциями и лабораториями способствовала подъему гигиенической науки и теоретически вооружала практических санитарных врачей. На кафедрах были созданы оригинальные руководства по гигиене, которые в течение многих десятилетий были настольными книгами русских санитарных врачей. Кафедры подготовили многочисленные кадры гигиенистов и санитарных врачей, многие из которых в дальнейшем возглавили кафедры и гигиенические учреждения страны (Г.В. Хлопин, М.Я. Капустин, С.С. Орлов, Н.К. Игнатов и др.).
Основоположниками отечественной экспериментальной гигиенической науки стали А.П. Доброславин и Ф.Ф. Эрисман. В 1872 г. в Медико-хирургической академии А.П. Доброславин организовал первую в России экспериментально-гигиеническую лабораторию. В последующие годы гигиенические лаборатории открылись и на других кафедрах; кроме того, появилось много специальных городских и земских гигиенических лабораторий, в которых проводились серьезные экспериментальные исследования. Большую роль в развитии экспериментальных исследований сыграла созданная Ф.Ф. Эрисманом в 1881 г. гигиеническая лаборатория на медицинском факультете Московского университета, реорганизованная позднее в Гигиенический институт.
Отечественная экспериментальная гигиена имела ярко выраженное физиологическое направление. В исследованиях тщательно учитывалась тесная связь изучаемых явлений окружающей среды со здоровьем человека. Вся научно-исследовательская и практическая работа как выдающихся гигиенистов, так и практических санитарных врачей была органически связана с изучением воздействия окружающей среды на человека. Это было характерной чертой отечественной гигиены, вытекающей из ее общественного направления. Ф.Ф. Эрисман подчеркивал, что «... все явления окружающей среды интересуют гигиениста лишь настолько, насколько они могут отражаться на здоровье человека...».
Большую роль в развитии гигиены сыграли открытия бактериологии. Гигиенисты при решении многих задач стали пользоваться бактериологическими методами исследования. С этой целью при многих гигиенических лабораториях стали открываться бактериологические отделения. Вместе с тем, передовые отечественные гигиенисты никогда не стояли на позициях моноказуализма, а напротив, подчеркивали, что борьба с эпидемиями, обеспечение санитарного благополучия страны тесно связаны с социальными преобразованиями, и поэтому гигиена не может ограничить свою работу только лабораторными исследованиями. «Бактериология, — говорил Ф.Ф. Эрисман на II съезде русских врачей (1887), — имеет для гигиены лишь значение вспомогательной науки и что она отнюдь не может играть исключительной роли в работах по экспериментальной гигиене или гигиенических исследованиях вообще, — одним словом, что для нас она представляет полезное, в известных случаях, орудие, не больше».
Характерное для отечественной гигиены ее общественное направление было связано не только с тем, что изменился объект изучения — вместо здоровья отдельного человека гигиена перешла к изучению здоровья коллектива, но и с тем, что существенно изменились направление гигиенических исследований и методика работы. Гигиенические исследования вышли за пределы лабораторий и получили широкое применение в практике, в жизни.
Гигиена дореволюционного периода не была дифференцирована. Гигиенисты и санитарные врачи работали во всех областях гигиены, однако в эти годы появляются отдельные работы по гигиене труда, школьной, коммунальной гигиене и гигиене питания. Большой вклад в развитие гигиены внесли санитарно-гигиенические исследования фабрично-заводских врачей. Из их работ в первую очередь необходимо отметить коллективный труд Ф.Ф. Эрисмана, А.В. Погожева, Е.М. Дементьева по обследованию санитарного состояния фабрик и заводов Московской губернии, работы В.В. Святловского (1851—1901) «Фабричный рабочий. Исследование здоровья русского фабричного рабочего» (1889) и «Фабричная гигиена» (1891), А.В. Погожева «Материалы для истории фабричной медицины в России» (1892), Д.П. Никольского «Рабочее движение в связи с врачебно-санитарными условиями на фабриках и заводах» (1906), работу В.А. Левицкого по изучению и оздоровлению труда рабочих шляпного производства и др. Большое значение в развитии гигиены в целом, а особенно гигиены труда, имела работа И.М. Сеченова «Очерк рабочих движений человека» (1901).
Развитию гигиены питания способствовало создание специальных лабораторий по исследованию продуктов питания. Большую роль сыграли лаборатории в борьбе с фальсификацией пищевых продуктов. Много работ отечественных гигиенистов было посвящено исследованиям питательной ценности отдельных продуктов и питанию отдельных групп населения: «Питание и продовольствие с политико-экономической точки зрения» (А.П. Доброславин), «Пищевое довольствие рабочих на фабриках Московской губернии» (Ф.Ф. Эрисман) и др. Эти работы послужили образцом для последующих исследований в этом направлении.
В области школьной гигиены заслуживают внимания работы отечественных гигиенистов: А.П. Доброславина, Ф.Ф. Эрисмана, Г.В. Хлопина, педиатра Н.П. Гундобина, анатома П.Ф. Лесгафта. Значительный вклад в развитие школьной гигиены внесли также Д.Д. Бекарюков, В.Е. Игнатьев, А.В. Мольков.
Много работ отечественных гигиенистов было посвящено вопросам коммунальной гигиены. Строительство водопроводов и выработка научных подходов к правильному пониманию показателей качества воды и ее очистки связаны с исследованиями А.П. Доброславина, Ф.Ф. Эрисмана, Г.В. Хлопина, С.В. Шидловского, Н.К. Игнатова и др. Исследованию загрязнения почвы и открытых водоемов были посвящены работы П.Н. Лащенкова, А.Я. Щербакова, А.Д. Соколова, С.Ф. Бубнова и др. Широкую известность приобрели работы отечественных гигиенистов по изучению жилищных условий и их влияния на состояние здоровья населения, по вопросам сельской гигиены, больничного строительства и др. Окончательное оформление этих отраслей гигиены в самостоятельные дисциплины произошло позже.
Медицина в СССР
Зарождение и развитие медицинской науки в СССР неразрывно связано со становлением советского здравоохранения. Уже в августе 1918 г. для разработки научно-практических вопросов при Наркомздраве РСФСР был образован Ученый медицинский совет во главе с Л.А. Тарасевичем. Перед Ученым медицинским советом была поставлена задача разрабатывать и рассматривать в научном отношении все учебные и научно-практические вопросы в области М., гигиены и санитарии.
Принципиально важным для развития медицинской науки явилось осуществление мероприятий по развитию сети научно-исследовательских учреждений. Сразу же после организации Наркомздрава РСФСР и образования при нем Ученого медицинского совета на повестку дня встал вопрос о создании научно-практического центра, в котором бы разрешались различные вопросы, возникающие в деятельности Наркомздрава. В 1920 г. был организован Государственный научный институт народного здравоохранения (ГИНЗ), который возглавил Л.А. Тарасевич. В 20—30-х гг. начали функционировать институты социальной гигиены, профессиональных заболеваний, охраны материнства и младенчества, курортологии, первый в мире институт переливания крови, институты по изучению мозга в Москве; травматологии, эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, хирургической невропатологии в Ленинграде; институт глазных болезней в Казани; институт им. Пастера в Минске и др. В 1932 г. создан Всесоюзный институт экспериментальной медицины им. А.М. Горького (ВИЭМ), перед которым были поставлены задачи развития медицины как науки, комплексного изучения человеческого организма, изыскания новых методов исследования, лечения и профилактики болезней на основе достижений биологии, физики и химии.
К 1941 г. насчитывалось уже свыше 200 медицинских научных институтов (в т.ч. многие — в союзных республиках, получивших базу для развития медицинской науки и подготовки национальных научных кадров) и около 20 тыс. научных работников.
Великая Отечественная война 1941—1945 гг. явилась испытанием для медицинской науки, которая сумела внести существенный вклад в победу советского народа. Выдающееся достижение военной медицины — разработка системы медицинского обеспечения войск, этапного лечения санитарно-противоэпидемического обслуживания действующей армии. В эти годы (1944) была создана Академия медицинских наук СССР, которая, наряду с координацией актуальных для военного времени исследований, сразу же приступила к планированию и разработке важнейших медицинских проблем предстоящего послевоенного восстановительного периода. На академию были возложены также общее планирование, координация, оценка результатов и контроль за проведением научных медицинских исследований по проблемам союзного значения. Начиная с 1971 г. с целью развития М. в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере и разработки проблем краевой патологии и адаптации человека к суровым условиям этих районов нашей страны организованы Сибирское отделение АМН СССР (г. Новосибирск), Восточносибирский филиал, а также Томский научный центр.
На рубеже 1980—90-х гг. над решением медицинских научных проблем работает широкая сеть научных центров, 100 научно-исследовательских институтов, лабораторий, 78 медвузов, 5 фармацевтических институтов, 16 институтов усовершенствования врачей и медицинских факультетов университетов. В них трудится около 100 тыс. научных и научно-педагогических работников, в т.ч. свыше 8 тыс. докторов наук и 50 тыс. кандидатов наук.
Дальнейшие успехи медицинской науки тесно связаны с исследованиями по фундаментальным проблемам биологии и медицины.
Медико-биологические науки. Развивая лучшие традиции отечественной морфологии, советские анатомы и гистологи изучали строение тканей, органов и систем организма во взаимоотношениях с их функциями в процессе развития целостного организма. Основным выражением этих тенденций развития морфологии в СССР явилось создание функциональной морфологии и ее ветвей — экспериментальной и эволюционной морфологии.
Сочетание эксперимента с морфологическим анализом и применением различных рентгенологических, микроскопических, комбинированных методов исследования в изучении проблем анатомии, гистологии, цитологии, эмбриологии привело к блестящим результатам в разработке проблем коллатерального кровообращения и лимфатического оттока, иннервации сердечно-сосудистой системы и внутренних органов, интероцепции и др. В.Н. Тонков и его ученики создали экспериментальную анатомию коллатерального кровообращения, установили значение регуляторных механизмов нервной системы в развитии сосудистых коллатералей, высокую приспособляемость артерий и вен к меняющимся условиям. Параллельно с разработкой этой проблемы проводились исследования сосудистой иннервации.
Г.М. Иосифов и его ученики (Д.А. Жданов и др.) детально изучили анатомию лимф. системы, пути движения лимфы и растворов, особенности коллатерального лимфооттока. В 1936 г. впервые удалось инъецировать и произвести рентгеноскопию грудного протока у живого человека. Экспериментальный метод позволил выявить значение нервно-рефлекторной регуляции лимфооттока, создать современное учение о лимфатической системе человека и животных и анатомически обосновать проблему коллатерального лимфооттока. В.П. Воробьев развил и углубил идеи П.Ф. Лесгафта о формообразующем влиянии функции, разработал стереоморфологический метод препарирования, позволивший изучать строение тела человека и животных в пограничной макромикроскопической области видения, микроскопировать не тончайшие срезы, а целые органы и т.о. изучать всю иннервацию органа в целом без нарушения существующих связей. Он открыл внутриорганные связи блуждающего нерва с симпатическими и периферическими спинальными нервами, составил новый атлас в.н.с. Совместно с физиологами В.П. Воробьев поставил экспериментальную работу по физиологическому анализу нервов сердца методом вшитых электродов в условиях хронического опыта. Изучению проблемы нервной регуляции деятельности внутренних органов весьма способствовала разработка морфологических основ интероцепции.
К числу создателей и крупнейших представителей гистофизиологического и экспериментального направления в советской гистологии принадлежали Б.И. Лаврентьев, А.А. Заварзин, Б.А. Долго-Сабуров. Они описали различные интероцепторы кровеносной, лимфатической и др. систем. Изучение иннервации органов и систем, особенно иннервации сердечно-сосудистой системы, составляет одну из самых сильных сторон отечественной функциональной морфологии. Анатомия в.н.с., разрабатывавшаяся также В.Н. Терновским, Р.Д. Синельниковым и Другими морфологами, сочеталась с экспериментальной гистологией, наиболее яркий представитель которой — Б.И. Лаврентьев систематически изучал межнейрональные отношения в.н.с. и их изменения при патологических состояниях, разработал учение о синапсах эффекторных и рецепторных аппаратов и этим разрешил спор о способах связи между нейронами. Экспериментально-гистологические изыскания Б.И. Лаврентьева расширяли и углубляли взгляды сторонников нейронной теории.
Эксперимент в приложении к морфологическим исследованиям оказался весьма эффективным также в работах М.А. Барона, посвященных гистофизиологии серозных и синовиальных оболочек, а также оболочек головного мозга, в исследованиях многих морфологов по гистофизиологии воспаления, в трудах по цитофизиологии Д.Н. Насонова, изучавшего реакции клеток на действие повреждающих раздражителей, выдвинувшего денатурационную теорию повреждения, так называемую градуальную теорию возбуждения, и открывшего совместно с В.Я. Александровым явление паранекроза, которое считается морфологическим выражением состояния парабиоза (по Н.Е. Введенскому).
Большое значение в морфологии 20 в. имела проблема изменчивости органов и систем. В этой области ведущими являются исследования В.Н. Шевкуненко и его учеников по индивидуальным особенностям топографии органов: выявлены закономерности в развитии и структуре внутренних органов в зависимости от конституционных особенностей человека, его возраста, пола, от состояния питания, установлены соотношение строения внутренних органов и костного скелета и т.д.: создано учение об индивидуальной изменчивости формы и строения органов и систем человека под воздействием условий окружающей среды; выявлены вариационные ряды индивидуальной изменчивости топографии формы и строения органов. Изучалась и функциональная анатомия двигательного аппарата, его изменения под влиянием профессионального труда, физкультуры и спорта.
Трудами А.А. Заварзина, Н.Г. Хлопина, Г. К. Хрущева и др. была сформирована эволюционная гистология, впитавшая в себя воззрения физиологического направления и эволюционно-генетические взгляды А.Н. Северцова и других отечественных биологов. Наибольшее значение в формировании эволюционной гистологии имели теории параллельных рядов тканевой эволюции А.А. Заварзина в дивергентной эволюции Н.Г. Хлопина: первая из них объясняет закономерности развития тканей, а вторая — их происхождение. А.Г. Гурвичу, открывшему в 1923 г. слабое ультрафиолетовое (митогенетическое) излучение, создавшему теорию так называемого биологического поля, и другим гистологам принадлежит заслуга изучения факторов деления клеток в нормальных и патологических условиях (митоза, амитоза, патологии митоза и пр.). Изучение проблемы гистогенетических рекапитуляций отразило взаимосвязь онто- и филогенеза, позволило прийти к пониманию тканей не как чисто механическому соединению отдельных клеток, а эволюционно обусловленному системному комплексу гистологических структур, созданию теории камбия, исследованию специфичности тканей, гистологической дифференцировки, межтканевых корреляций, тканевой регенерации, экологической гистологии и палеогистологии.
Идеи эволюционного учения оказали плодотворное воздействие на исследования в области цито- и миелоархитектоники коры головного мозга, выполненные сотрудниками института мозга АМН СССР и обобщенными в «Атласе цитоархитектоники коры большого мозга человека» (1955). Всеобщее признание получили исследования по гистологии в.н.с. (Н.Г. Колосов, Д.М. Голуб и др.), гистофизиологии серозных, синовиальных оболочек и оболочек головного мозга, вопросам организации нервной ткани (П.Е. Снесарев и др.), цитоархитектонике и изменчивости корковых полей больших полушарий (С.А. Саркисов, И.Н. Филимонов, Е.П. Кононова). Широкое внедрение электронной микроскопии, гисто- и цитохимических методов позволяет получать новые данные о субмикроскопическом строении тканей.
Функциональное направление морфологии в СССР отражено также в исследованиях по возрастной анатомии и по изучению влияний труда и профессий на телосложение, по функциональной анатомии движений, индивидуальной изменчивости скелета и др.
В патологической анатомии в 20 в., в отличие от органолокалистического направления, господствовавшего на Западе, в России получило развитие нозологическое и функциональное направление, связанное с экспериментально-физиологическим направлением, рассматривающее больной организм в целом, стремящееся проникнуть в патогенез заболеваний. Инициаторами этого направления явились представители московской школы патологоанатомов — А.И. Абрикосов, И.В. Давыдовский, М.А. Скворцов, В.Т. Талалаев и др. Сравнение клинического и патологоанатомических диагнозов и обсуждение их совместно с лечащими врачами на клинико-анатомических конференциях стало традицией, в создании которой ведущая роль принадлежит И.В. Давыдовскому. В дальнейшем конференции были узаконены для всех больниц СССР; они повысили роль прозектуры в диагностике и укрепили клинико-анатомическое направление в М. Изучению патологических изменений при инфекционных болезнях посвящены труды И.В. Давыдовского, гистогенеза ревматической гранулемы — В.Т. Талалаева, создателя первой клинико-анатомической классификации ревматизма; М.А. Скворцов и Д.Д. Лохов заложили основы патологической анатомии болезней детского возраста.
Патологоанатомические школы, представленные Н.Н. Аничковым, С.С. Вайлем и др., проводили изучение сердечно-сосудистой патологии, ретикулоэндотелиальной системы, инфекционных болезней на секционном материале и путем создания экспериментальных моделей.
А.В. Русаков с сотрудниками работал в области костной патологии, П.Е. Снесарев — патологии нервной системы, А.И. Абрикосов, А.И. Струков. А.Н. Чистович и др. внесли значительный вклад в разработку патологичекой анатомии туберкулеза. Широкое признание получили исследования Н.А. Краевского по патоморфологии лейкозов, лучевых повреждений, морфогенезу и морфологии опухолей, А.В. Смольянникова и В.В. Серова — по иммуноморфологии, А.П. Авцына — по географической патологии Л.И. Струкова — по морфологии коллагенозов, Д.С. Саркисова — по регенерации патологически измененных органов и др. Исследованиями 60—80-х гг. накоплен большой материал об изменениях клеточных органелл при различных болезнях человека, динамике этих изменений, закономерностях восстановления внутриклеточной архитектоники в процессе выздоровления под влиянием современных методов лечения и т.д. Пути развития советской физиологии во многом были определены достижениями выдающихся отечественных ученых конца 19 — начала 20 вв. — Ф.В. Овсянникова, И.Р. Тарханова, И.П. Павлова, Н.Е. Введенского, В.М. Бехтерева, В.Я. Данилевского, А.Ф. Самойлова и др. С первых лет развитие физиологии в СССР опиралось на всемерную поддержку со стороны Советской власти. Свидетельством тому может служить подписанное В.И. Лениным Постановление Совета Народных Комиссаров от 24 января 1921 г., в котором отмечались «совершенно исключительные научные заслуги академика И.П. Павлова, имеющие огромное значение для трудящихся всего мира», и поручалось «в кратчайший срок создать наиболее благоприятные условия для обеспечения научной работы академика Павлова и его сотрудников». На оборудование лабораторий И.П. Павлова и строительство знаменитой «башни молчания» были выделены большие для того времени средства. В Колтушах под Ленинградом был построен специальный институт. Несколько позже были организованы крупные научно-исследовательские центры: институт физиологии им. И.П. Павлова, ряд новых отделов в институте экспериментальной медицины, институт нормальной и патологической физиологии, институт эволюционной физиологии им. И.М. Сеченова, институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии, институты физиологии на Украине, в Грузии, Армении, Белоруссии и др.
Наибольшими успехами ознаменовалась разработка учения о в.н.д. И.П. Павловым и его школой были выяснены многие важные закономерности образования, взаимодействия и торможения условных рефлексов, функционирования головного мозга; создано учение об анализаторах и динамической локализации функций в коре больших полушарий. Результаты своих исследований в этой области И.П. Павлов обобщил в фундаментальном труде «Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных».
С 1924 г. И.П. Павлов и его сотрудники начали систематическое изучение экспериментальных неврозов и типов в.н.д. Опытами М.К. Петровой, А.Д. Сперанского, И.П. Разенкова, П.С. Купалова, А.Г. Иванова-Смоленского и др. были выяснены условия возникновения и устранения экспериментальных неврозов у животных, что позволило наметить пути физиологического анализа психических заболеваний и выдвинуть идею об охранительной роли торможения.
XV Конгресс физиологов в Ленинграде (1935), где И.П. Павлов был провозглашен «старейшиной физиологов мира», не только отметил выдающиеся личные заслуги великого ученого, но и засвидетельствовал международное признание огромного и оригинального вклада отечественной физиологии в сокровищницу человеческой культуры.
Большое внимание уделялось изучению сложных форм условных рефлексов и их интефации как физиологической основы произвольных движений и поведения животных. Так, исследованиями П.С. Купалова, Э.А. Асратяна, М.К. Петровой и других последователей И.П. Павлова было показано, что каждый отдельный сигнал воспринимается корой больших полушарий головного мозга не изолированно, а в определенной системе, в его связи и взаимодействии со всеми другими одновременно и последовательно действующими раздражителями. Свойство коры больших полушарий головного мозга объединять отдельные условные рефлексы в определенной последовательности в единое целое получило название динамической стереотипии, или системности. Было установлено, что эффект условного раздражителя зависит от той тонической условнорефлекторной преднастройки, на фоне которой он применяется. П.С. Купалов и его сотрудники разработали методику изучения в.н.д. животных в условиях их свободного поведения в экспериментальной комнате и доказали полную приложимость выявленных И.П. Павловым закономерностей к анализу так называемого произвольного поведения. Условные рефлексы на окружающую обстановку П.С. Купалов назвал ситуационными.
В многолетних исследованиях П.К. Анохина и его сотрудников особое внимание было уделено роли подкрепления в процессе формирования, совершенствования и торможения условного рефлекса, взаимодействию центральных периферических звеньев. Был проведен тонкий анализ последовательно сменяющихся этапов становления условнорефлекторного навыка; выдвинуто и развито представление о функциональных системах; вскрыт ряд конкретных узловых механизмов, лежащих в основе центральной организации функциональных систем (афферентный синтез, принятие решения, акцептор результатов действия); выдвинута концепция об опережающем отражении живыми существами действительности.
Результат деятельности системы и обратная афферентация о результате заставили коренным образом изменить представления об общих принципах работы живых организмов. П.К. Анохиным было сформулировано представление о множественных специфических восходящих активирующих влияниях подкорковых образований на кору головного мозга при реакциях различного биологического качества. Это, в свою очередь, расширило традиционные представления о механизмах множественной конвергенции возбуждений на различных нейронах ц.н.с. и дало основание выдвинуть концепцию об интегративной деятельности нейрона.
На основе теории функциональных систем впервые в физиологии и патологии были вскрыты механизмы компенсаторных приспособлений при тотальном оперативном удалении легкого. Было показано, что компенсация охватывает при этом такие исполнительные аппараты функциональной системы дыхания, как сердце, форменные элементы крови, насыщение эритроцитов гемоглобином, буферные свойства крови и т.д. Раскрыты механизмы приспособления и сопротивления функциональных систем в экстремальных условиях. Материалы этих работ дали возможность расшифровать основные правила формирования защитных приспособлений организма к действию чрезвычайных условий.
С системных позиций по-новому подошли к исследованиям механизмов эмоций, мотиваций и памяти. Установлено, что нейрофизиологическую основу доминанты составляют механизмы биологических и социальных мотиваций. Показано, что биологические мотивации строятся за счет избирательных восходящих активирующих влияний «пейсмекерных» гипоталамических центров на кору головного мозга.
Л.Г. Воронин показал, что элементарные двигательные условные рефлексы интегрируются в виде цепных условных рефлексов и систем из них. Изучение последних подтвердило взгляды И.П. Павлова на механизм произвольных движений и раскрыло рефлекторную природу трудовых и спортивных навыков человека. В дальнейшем были выявлены и изучены экстраполяционные рефлексы, условные рефлексы так называемого инструментального типа и другие сложноинтегрированные формы аналитико-синтетической деятельности мозга.
Принципиальное значение имела разработка проблемы корково-подкорковых отношений. Были исследованы способность подкорковых образований к выработке элементарных условных рефлексов, характер взаимодействия различных областей коры головного мозга при условнорефлекторной деятельности и роль в этих процессах межполушарных связей. В итоге исследований, выполненных в лабораториях И.П. Павлова, Л.А. Орбели, Л.Г. Воронина, Д.А. Бирюкова и др., были выявлены онто- и филогенетические закономерности эволюции в.н.д. у различных животных, начиная от низших позвоночных и кончая человекообразными обезьянами.
Вопросы физиологии в.н.д. разрабатывались и представителями других научных школ. В.М. Бехтерев с сотрудниками при помощи методики сочетательно-двигательных рефлексов впервые начал проводить исследования на человеке и доказал, что двигательные поля коры головного мозга являются основой индивидуально приобретенных, заученных движений. Ученик В.М. Бехтерева В.П. Протопопов осуществил исследования по образованию двигательных навыков высших животных в условиях естественного эксперимента и выполнил ряд работ, посвященных физиологическим механизмам абстрактного мышления и патологии в.н.д.
Основатель грузинской физиологической школы И.С. Бериташвили изучал поведение животных в условиях их свободного передвижения. Он выдвинул ряд оригинальных положений о закономерностях синтетической деятельности коры больших полушарий, образовании в коре больших полушарий двусторонних временных связей, механизмах ориентации животных и человека в пространстве.
Комплексное изучение в.н.д., осуществленное в лабораториях Н.А. Рожанского, П.К. Анохина, М.Н. Ливанова, Б.С. Русинова, И.С. Бериташвили, Л.Г. Воронина, Е.Н. Соколова, Н.Ю. Беленкова, М.М. Хананашвили и др., позволило развить выдвинутую И.П. Павловым концепцию о единстве деятельности коры больших полушарий головного мозга и подкорковых образований. Так, И.С. Дерябин выявил характер влияния высших вегетативных центров, расположенных в гипоталамической области мозга, на условные рефлексы. А.И. Смирнов обнаружил, что импульсы с дыхательного центра продолговатого мозга оказывают постоянное активирующее влияние на всю ц.н.с. Результаты этих и других исследований по существу являются предтечей современных данных X. Мегуна, Дж. Моруцци, П.К. Анохина, А.И. Ройтбака и др. об активирующем влиянии ретикулярной формации ствола мозга на кору больших полушарий.
Итоги исследований по проблемам в.н.д. явились крупнейшим достижением современного естествознания, создали основу для новой физиологии, которая с полным правом может быть названа синтетической. Синтетическая физиология И.П. Павлова, утверждающая принцип изучения деятельности организма как единого целого, единство его физических и психических процессов и устанавливающая механизмы соотношений организма с внешней средой, оказала существенное влияние на философию и психологию, педагогику и медицину не только в нашей стране, но и во всем мире. Показательно, что в 60—70-х гг. условные рефлексы стали одним из самых актуальных объектов изучения в нейрофизиологических и психологических лабораториях многих стран. Зарубежные нейрофизиологи, встав на путь широких обобщений в области физиологии мозга, неизбежно должны были прийти к необходимости учета закономерностей, открытых И.П. Павловым.
На основе идей И.П. Павлова создан ряд самостоятельных направлений. Яркую и оригинальную главу современной физиологии представляет учение о трофической функции нервной системы, разработанное в трудах Л.А. Орбели, А.Д. Сперанского и их многочисленных сотрудников. Мысли И.П. Павлова о нервной регуляции обменных процессов в тканях организма получили блестящую разработку физиологами школы Л.А. Орбели. Так, в совместной работе с А.Г. Гинецинским Л.А. Орбели показал, что раздражение симпатического нерва может менять функциональное состояние утомленной мышцы, повышая ее работоспособность. Это открытие вошло в мировую литературу под названием «феномена Орбели — Гинецинского». В ряде последующих работ Л.А. Орбели и его сотрудники доказали, что симпатическая нервная система является универсальной, что в организме нет ни одного органа, ни одной ткани, которые бы не испытывали ее регулирующего влияния. Исходя из экспериментальных исследований и называя регуляцию химизма ткани, ее обмена с окружающей средой трофическим воздействием, а изменение функционального состояния органа и ткани для лучшего приспособления организма к изменению в окружающей среде — адаптацией, Л.А. Орбели выдвинул теорию универсального адаптационно-трофического влияния симпатической нервной системы на функциональное состояние мышц, рецепторов, высших отделов мозга. Л.А. Орбели и его сотрудники провели исследования функции мозжечка и показали его значение в нейрогуморальной регуляции многих функций организма Ученик И.П. Павлова Г.В. Фольберт выявил значение симпатической нервной системы и эндокринных желез в секреторной и моторной деятельности желудочно-кишечного тракта; установил основные закономерности, которым подчиняется выработка желчи печенью. И.П. Разенков показал роль желудочно-кишечного тракта в промежуточном обмене веществ и значительное влияние различных факторов внешней и внутренней среды организма, в т.ч. качества и режима питания, на нервную систему и деятельность пищеварительных желез. Он развил представление о реактивной способности органов и тканей пищеварительного аппарата и о второй гуморально-химической фазе желудочной секреции.
Разработка проблемы кортикальной регуляции деятельности внутренних органов в значительной степени связана с исследованиями К.М. Быкова, раскрывшего значение разносторонних отношений коры головного мозга и внутренних органов. Существенную роль в разработке этой проблемы сыграла использованная В.Н. Черниговским и его сотрудниками методика изолированной перфузии органов, сохранивших неповрежденные нервные связи с ц.н.с. Применение этой методики позволило раскрыть закономерности и механизмы интероцептивных рефлексов, охарактеризовать функциональную структуру интероцептивного анализатора и исследовать тонкую локализацию представительства внутренних органов в коре больших полушарий головного мозга. В.Н. Черниговский сформулировал положения об общебиологическом значении интероцепции в поддержании гомеостаза и установлении соответствия между условиями окружающей среды и функциональными системами организма. На основании экспериментальных и клинических данных было установлено значение интероцептивной сигнализации и ее нарушений в развитии и течении ряда патологических состояний. Работы В.В. Ларина, К.М. Быкова, В.Н. Черниговского и др. показали, что нет такого органа, который не обладает рецепторной функцией и не является источником интероцептивных рефлексов.
В области общей нейрофизиологии выдающихся успехов достигла научная школа Н.Е. Введенского — А.А. Ухтомского. В годы Советской власти Н.Е. Введенский сформулировал теорию безымпульсной периэлектротонической сигнализации. Созданное ранее Н.Е. Введенским учение о парабиозе развивалось его учениками в нескольких направлениях. Особенно значительным достижением следует считать учение А.А. Ухтомского о доминанте как главном рабочем принципе деятельности ц.н.с. (1923). Открытие доминанты — очага возбуждения в ц.н.с., направляющего целостную деятельность организма в данный момент и при данных условиях, — показало условность представлений о стабильности координационных отношений между нервными центрами. Оказалось, что конечный результат рефлекторной реакции организма не определяется целиком проведением импульсов от рецепторов к эффекторным органам по изолированным путям, а во многом зависит от функционального состояния нервных центров.
Крупный вклад в изучение физиологии ц.н.с. внесли школа советских физиологов Грузии и ее основатель И.С. Бериташвили. На основании электрофизиологических исследований И.С. Бериташвили выдвинул положение о сопряженной иррадиации возбуждения, тормозной функции дендритов и электротонической природе центрального торможения. И.С. Бериташвили установил ритмическую природу реципрокного торможения, образование двусторонних временных связей при выработке условного рефлекса, роль корковых и подкорковых отделов мозга в образной нервно-психической деятельности, автоматический непроизвольный характер условного рефлекса и др. Исследования А.Ф. Самойлова, Н.А. Бернштейна, И.С. Бериташвили и др. по физиологии движений привели к возникновению представлений о циклическом характере функциональной структуры двигательных актов и корригирующей роли вторичных афферентных импульсов (обратных связей) в сложном взаимодействии детерминированных прошлым опытом и самонастраивающихся механизмов.
Естественным продолжением работ Н.Е. Введенского и его учеников по физиологии нервного волокна и мионевральной передачи явились исследования нервной клетки и синапсов. А.Ф. Самойлов выдвинул идею о химической сущности передачи нервного импульса с двигательного нерва на скелетную мышцу (1924) и сформулировал теорию гуморального (медиаторного) происхождения внутриклеточных процессов торможения и возбуждения и передачи возбуждения с клетки на клетку. Дальнейшее развитие гуморальной теории, получившей название медиаторной, нашло отражение в трудах Е.Б. Бабского, А.В. Кибякова и др. Д.С. Воронцов выяснил механизм электрических явлений, сопровождающих распространение и передачу нервного импульса через нервно-мышечные синапсы.
В органической взаимосвязи с разработкой общей физиологии нервной системы и в.н.д. проводилось исследование органов чувств. Изучение анализаторных систем в советской физиологии отмечено своеобразным подходом и богатыми традициями. Советских ученых преимущественно интересовало участие анализаторов в целостной приспособительной деятельности живых существ, функциональной связи периферических и центральных элементов, проблема взаимодействия анализаторов, их влияния друг на друга.
Советские физиологи создали учение о нейрогуморальной регуляции и взаимодействии анализаторов (Л.А. Орбели, С.В. Кравков, Л.А. Андреев и др.), о процессах адаптации (А.В. Лебединский) и сенсибилизации. Ценные факты были получены при изучении слухового анализатора относительно реакций на слабые (субсенсорные) звуки и особенности восприятия коротких и продолжительных звуковых сигналов (Г.В. Гершуни). Получены данные о временно-пространственной организации слухового анализатора. Выявлены важные закономерности восприятия, переработки и опознания сигналов в различных звеньях зрительной системы.
Работы по физиологии вестибулярного анализатора (И.С. Бериташвили, Э.Ш. Айрапетьянц) приобрели особое значение в связи с бурным прогрессом авиационной и космической медицины, где достоверные данные о механизмах пространственной рецепции, о связи вестибулярного аппарата с в.н.с. и другими анализаторами представляют большой практический интерес. Важные исследования по вопросам физиологии и патологии вестибулярного и кохлеарного аппаратов осуществил В.И. Воячек — создатель военной отоларингологии в СССР, сыгравший важную роль в развитии авиационной и космической медицины. Установлены закономерности регуляции мозгового кровообращения, в частности изменение его под действием гравитационных перегрузок, и вскрыты механизмы устойчивости сосудистой системы мозга к действиям гипергравитации.
Энергично развиваются исследования механизмов речевосприятия и речеобразования, что исключительно важно не только для клиники, дефектологии и педагогики, но и для совершенствования систем сверхдальней связи, а также для прямого ввода речевых команд в автоматические устройства.
Советские физиологи заложили основы ряда новых отраслей физиологии. Л.А. Орбели сформулировал общие принципы функциональной эволюции нервной системы: постепенное приобретение ведущей роли в интеграции функций филогенетически молодыми отделами мозга; постепенная смена более древних гуморальных механизмов воздействия на двигательный аппарат более прогрессивными нервными «пусковыми» влияниями с подавлением автоматической активности и т.д. Школами Л.А. Орбели, а также X.С. Коштоянца раскрыты существенные закономерности совершенствования физиологических механизмов и повышения уровня функциональной организации животных в процессе развития, что позволило поставить вопрос о новой научной дисциплине — эволюционной физиологии.
Последовательное развитие эволюционных идей о единстве организма и условий существования привело к возникновению экологической физиологии, изучающей механизмы адаптации к факторам среды, влияния последней на формирование и протекание физиологических функций. В становление экологической физиологии внесли значительный вклад исследования лабораторий Д.А. Бирюкова, А.Д. Слонима, Е.М. Крепса и др.
Впервые в нашей стране была создана как самостоятельная научная дисциплина возрастная физиология, изучающая онтогенетическую эволюцию организма. В этой области работами лабораторий В.М. Бехтерева, Л.А. Орбели, И.А. Аршавского, А.А. Волохова, В.А. Трошихина и др. выявлены закономерности функционирования организма на различных этапах индивидуального развития.
Самостоятельным разделом физиологической науки стала физиология труда и спорта. Лаборатории А.А. Ухтомского, К.X. Кекчеева, А.Н. Крестовникова, М.И. Виноградова, Н.А. Бернштейна и др. всесторонне изучили физиологические механизмы образования двигательных навыков, развития силы и скорости движений, особенности протекания восстановительных процессов после напряженной мышечной работы. На их основе были разработаны методы тренировки, меры повышения работоспособности и устранения утомляемости и других последствий, возникающих при физической и умственной деятельности. Н.А. Бернштейн создал новое направление в физиологии движений, явившееся теоретической основой биомеханики.
В связи с нуждами авиации и освоением стратосферы В.В. Стрельцовым, Л.А. Орбели, М.П. Бресткиным и др. были выполнены исследования, положившие начало развитию авиационной физиологии и М. Наступление космической эры привело к формированию космической биологии и М. Различные ее аспекты при полетах на спутниках, космических кораблях и станциях исследовали В.В. Ларин, В.Н. Черниговский, Ю.М. Волынкин, В.Б. Егоров, О.Г. Газенко и др. В институте медико-биологических проблем МЗ СССР были изучены особенности жизнедеятельности организма животных и человека при действии факторов космического полета и пространства с целью разработки средств и методов сохранения здоровья и работоспособности членов экипажей космических кораблей и станций. Результаты исследований позволили обосновать комплекс мер по обеспечению безопасного полета человека в космическое пространство.
Большими достижениями ознаменовалось последовательное осуществление тезиса И.П. Павлова о союзе физиологии с медициной. Идеи целостности организма, его единства с окружающей средой явились основой развития физиологического направления советской М. Изучение неврозов и психозов у больных в клиниках позволило И.П. Павлову использовать важнейшие выводы своего учения для объяснения закономерностей развития патологических процессов. Данные об экспериментальных неврозах, а затем и созданная впервые в нашей стране патологическая физиология в.н.д. оказали существенное влияние на невропатологию и психиатрию. Много новых фактов и закономерностей установлено исследованиями нарушений в.н.д. при локальных повреждениях мозга, постэнцефалических расстройствах, при электрических раздражениях подкорковых структур. Разработано представление об информационных неврозах, возникающих при анализе, запоминании и синтезе больших объемов информации, что имеет значение для практического здравоохранения (М.М. Хананишвили). Применение электроэнцефалоскопии, корреляционного анализа, триггерной стимуляции и других новых приемов нейрофизиологических исследований расширило возможности диагностики. Изучение нейрогуморальных взаимоотношений и барьерных функций при патологии различных отделов нервной системы позволило наметить пути патогенетической терапии (Н.И. Гращенков, Г.Н. Кассиль и др.).
Близкое к клиническим проблемам направление в изучении деятельности ц.н.с. возникло в связи с разработкой проблемы компенсации нарушенных функций, тесно связанной с проблемой соотношения центра и периферии. П.К. Анохин выдвинул (1935) теорию обратной афферентации, согласно которой установление новых связей и перестройка работы центров происходит под воздействием афферентных импульсов с периферии. Разработкой этой проблемы П.К. Анохин способствовал сближению физиологии с кибернетикой. Работы по изучению нейрофизиологических механизмов компенсаторных приспособлений помогли понять природу пластичности нервной системы, примеры высокой продуктивности людей, казалось бы обреченных недугом на полное бездействие. Результаты этих исследований были использованы для лечения раненых и восстановления их трудоспособности. В 60—70-х гг. закономерности и механизмы компенсации нарушенных функций привлекают внимание инженеров, ищущих пути повышения надежности автоматических устройств.
Плодотворно разрабатывались проблемы эмоциональных стрессов и их роли в генезе устойчивой артериальной гипертензии (П.К. Анохин, К.В. Судаков и др.). Установлена ведущая роль адренергического субстрата ретикулярной формации в механизмах эмоционального стресса, выяснена динамика вовлечений в него соматических и вегетативных компонентов.
В отделе нейрофизиологии человека института экспериментальной медицины АМН СССР под руководством Н.П. Бехтеревой проводятся работы, направленные на изучение фундаментальных механизмов мозга человека. Получены факты о структурно-функциональной организации мозга человека, о функциональных характеристиках различных его зон, о мозговом обеспечении мыслительной, эмоциональной, двигательной деятельности и вегетативных функций. Важным этапом в исследованиях мозга человека явилось создание стереотаксической неврологии — учения о способах распознавания, описания, систематизации и классификации реакций, возникающих при точечных электрических воздействиях на различные зоны мозга, о механизмах этих реакций, их диагностическом и прогностическом значении.
Взаимопроникновение идей, теоретических подходов и методов современной химии, математики, физики и биологии обусловило в первой половине 20 в. формирование биофизики — науки, включающей в себя весь комплекс сведений о механизме физических и физико-химических процессов, а также об ультраструктуре биологических систем на всех уровнях организации живой материи — от субмолекулярного и молекулярного до клетки и целого организма. Основные ее достижения в СССР связаны с исследованиями П.П. Лазарева, М.Н. Шатерникова, А.Ф. Самойлова, Н.К. Кольцова, Г.М. Франка, Б.Н. Тарусова и др. Еще в 1910—1920 гг. М.Н. Шатерников, используя термодинамические представления, изучал энергетический баланс организма. А.Ф. Самойлов описал акустические свойства среднего уха, В 1919 г. в Москве был создан институт биологической физики во главе с П.П. Лазаревым, где велись работы по развитию ионной теории возбуждения, исследовались процессы первичного действия на организм различных факторов окружающей среды и т.д. П.П. Лазарев разработал фотохимическую теорию световой и темновой адаптации глаза при периферическом зрении. Зрительную адаптацию у человека в 30-х гг. исследовал С.В. Кравков. Одновременно С.И. Вавилов развил квантовую теорию световосприятия и установил, что для светоощущения у человека достаточно действия на фоторецепторы нескольких квантов света. А.Н. Цветков сформулировал теорию цветового зрения. В работах С.В. Кравкова, А.В. Лебединского, Л.А. Андреева, Г.В. Гершуни, Н.И. Гращенкова и др., подвергших систематическому изучению деятельность органов чувств, был использован метод условных рефлексов, с помощью которого добыты важные факты физиологии зрительного, слухового и других анализаторов. Большое влияние на развитие советской биофизики оказал Н.К. Кольцов, по инициативе которого в Московском университете была создана кафедра физико-химической биологии. Его ученики широко разрабатывали вопросы влияния физико-химических факторов окружающей среды на жизнедеятельность клетки и отдельных структур.
Г.М. Франк исследовал молекулярную организацию живой клетки и молекулярные процессы, лежащие в основе жизнедеятельности (процессы нервного возбуждения, мышечного сокращения, фоторецепции), структурную организацию мышцы, физико-химические свойства, локализацию и роль белковых компонентов мышцы в норме и патологии. Он возглавил работы по использованию рентгеновских лучей с целью выяснения строения клеток и субклеточных структур, по созданию первого отечественного электронного микроскопа. Результаты его исследований биологического действия ультрафиолетового излучения нашли практическое применение в М., в частности для лечения травм периферической нервной системы, разработки бактерицидных ультрафиолетовых ламп. Труды Г.М. Франка внесли существенный вклад в разработку проблем биофизики клетки, фотобиологии и радиобиологии.
Отечественные исследователи Ю.А. Владимиров, Ф.Ф. Литвин, Б.Н. Тарусов, С.В. Конев в 1959—1966 гг. обнаружили и стали активно изучать сверхслабое свечение биологического объекта в видимой области спектра, оживив интерес к идеям А.Г. Гурвича о митогенетическом излучении и биополе. Б.Н. Тарусов показал, что происхождение свечения связано с окислительными процессами в липидах. Несколько ранее (1938—1948) он установил особую роль в биологических системах лабильных продуктов окисления ненасыщенных жирных кислот и цепных реакций в механизме таких процессов, как действие ионизирующих излучений, канцерогенез, биолюминесценция, и впервые указал на значение липидов и цепных реакций в механизме нарушения функции клетки в развитии патологического процесса (при опухолевом росте, лучевом поражении и др.). В 1953 г. Б.Н. Тарусов организовал на биологическом факультете МГУ первую в СССР кафедру биофизики.
В.П. Скулачев открыл явление трансформации химической энергии в электрическую на мембранах внутриклеточных органелл, показал значение электрического мембранного потенциала как фактора, сопрягающего процессы освобождения и аккумуляции энергии в клетке.
Своеобразное место в биофизике занимают труды одного из основоположников гелиобиологии А.Л. Чижевского, посвященные изучению связи биосферы Земли с солнечной активностью. Он впервые показал целый комплекс связей между физиологическими реакциями человека, неодинаковой интенсивностью солнечного излучения и электромагнитным состоянием окружающей среды. Экспериментальное изучение сдвигов в макро- и микроорганизмах под влиянием резких изменений физико-химической среды позволило А.Л. Чижевскому обнаружить эффект упреждения этих сдвигов изменениями свойств коринебактерий. Этот феномен, получивший в современной литературе по космической биологии название «эффекта Чижевского — Вельховера», приобрел большое значение в качестве средства предвидения солнечных эмиссий, особо опасных для человека за пределами земной атмосферы.
Еще в первые годы 20 в. исследования И.Р. Тарханова и Е С. Лондона по изучению воздействия на организм лучей радия положили начало формированию радиобиологии. В 1918 г. был создан Ленинградский государственный рентгенологический и радиологический институт. Из лабораторий этого института, руководимых М.И. Неменовым, Г. А. Надсоном, В.Г. Гаршиным, Г.В. Шором, Л.Г. Перетцем и др., вышли фундаментальные исследования по проблемам радиобиологии. В 1925 г. Г.А. Надсон и Г.С. Филиппов впервые обнаружили мутагенное действие ионизирующей радиации. Это открытие легло в основу развившейся позже радиационной генетики. М.И. Неменов, Д.Г. Шефер, И.А. Пионтковский и др. показали функциональную радиочувствительность ц.н.с. А.А. Заварзин, В.Я. Александров и др. в 1927—1937 гг. обнаружили большую радиочувствительность зародышей животных. Исследования 1929—1940 гг., предпринятые по инициативе В.И. Вернадского, положили начало радиоэкологии. А.М. Кузин открыл (1959), что в облученных тканях образуются биологически активные вещества (радиотоксины), и исследовал их роль в развитии радиационного поражения. Он создал структурно-метаболическую теорию в радиобиологии, являющуюся теоретической основой поиска радиозащитных средств. А.В. Лебединский сформулировал представление о нарушении адаптационных возможностей облученного организма, дал характеристику процессов пострадиационного восстановления и компенсации, обосновал концепцию о непороговом действии ионизирующего излучения. П.Д. Горизонтов обосновал представление о полипатогенетическом действии ионизирующей радиации, разработал теорию патогенеза лучевой болезни, получил новые данные о токсемии при лучевой болезни, разработал основные принципы экспериментальной терапии острой лучевой болезни. Л.А. Ильин изучил закономерности метаболизма продуктов деления урана в организме. Результаты его исследований использованы при разработке средств профилактики поражений радиоактивными веществами. Коллективы ученых выполнили исследования, направленные на развитие радиоизотопной диагностики, противолучевой защиты и лечения лучевой болезни.
Научно-технический прогресс, бурное развитие физики, химии и биологии оказали существенное влияние на развитие в нашей стране биологической и медицинской химии. В 1921 г. по инициативе А.Н. Баха правительством было организовано первое в нашей стране биохимическое научно-исследовательское учреждение — Биохимический институт Народного комиссариата здравоохранения РСФСР (ныне институт биохимии им. А.Н. Баха АН СССР). В этом институте работали выдающиеся советские биохимики В.А. Энгельгардт, А.Н. Браунштейн, Б.И. Збарский и др. Основным направлением исследований института в 20—30-х гг. было изучение химии и биологической роли ферментов и протекающих в организме окислительно-восстановительных процессов. Другим центром развития биохимии была ВМА, где под руководством основоположника отечественной биохимии А.Я. Данилевского разрабатывались проблемы химии белка, методы выделения и очистки ферментов, изучались механизм их действия и условия обратимости ферментативных реакций.
В институте экспериментальной медицины оригинальное патохимическое направление в функциональной биохимии создал Е.С. Лондон. В 1919 г. он предложил метод вазостомии (ангиостомии — наложение постоянных металлических фистул на крупные венозные сосуды внутренних органов), что открыло доступ внутрь организма без изменения естественного хода жизни подопытных животных. В 1935 г. Е.С. Лондон предложил метод органостомии. При помощи этих методов в СССР и за рубежом исследовались механизмы углеводного, белкового и водно-солевого обмена.
Развитие биохимии на Украине связано с именем А.В. Палладина, который в 1925 г. организовал Украинский биохимический институт в Харькове (с 1931 г. — в Киеве). А.В. Палладин с сотрудниками изучал влияние физической работы различных пищевых рационов на химический состав мышцы. А.В. Палладиным, Г.Е. Владимировым и их учениками выполнены фундаментальные исследования, посвященные химизму нервных процессов. В частности, были подвергнуты биохимическому анализу процессы условного возбуждения, различных видов внутреннего торможения и др., изучены изменения, происходящие в обмене белков, углеводов, нуклеиновых кислот, фосфорных соединений мозга при различных условиях его деятельности. Им удалось, обобщив особенности биохимических реакций, приступить к созданию химической топографии мозга.
В 1932 г. в Москве был создан Всесоюзный институт экспериментальной медицины (ВИЭМ), в состав химического сектора которого вошел институт биохимии Наркомздрава СССР. В ВИЭМ в конце 30-х гг. советскими учеными А.Е. Браунштейном и М.Г. Крицман доказана возможность перехода белковых соединений в безбелковые и обратно (переаминирование). Этим открытием было показано, что в определенных условиях происходит превращение, переход друг в друга всех основных органических веществ: белков, углеводов, жиров. В 60—70-х гг. установлено большое значение этого процесса для клинической медицины — увеличение содержания в крови ферментов, связанных с процессами переаминирования, оказалось характерным признаком некоторых болезней, протекающих с обширным расщеплением омертвевших тканей (инфаркт миокарда, некротические процессы в печени и др.).
Другая крупная школа советских медицинских биохимиков сформировалась на кафедре биохимии Московского университета (1-го Московского медицинского института), которой руководили В.С. Гулевич, Б.И. Збарский, С.Р. Мардашев. Этой школе принадлежат фундаментальные исследования в области изучения белкового обмена, сравнительной биохимии, биохимии работающей мышцы и обмена аминокислот, экстрактивных веществ органов и тканей животного организма.
В 1944 г. в составе АМН СССР был организован Институт биологической и медицинской химии, в котором работали Я.О. Парнас, С.Е. Северин, В.Н. Орехович, А.Е. Браунштейн, С.Я. Капланский, М.М. Шемякин, С.Р. Мардашев, Н.А. Юдаев и др. Выдающиеся исследования А.Е. Браунштейна и его сотрудников привели к открытию ряда новых реакций обмена аминокислот и выяснению роли витамина В6 в этих реакциях. А.Е. Браунштейном и М.М. Шемякиным была создана общая теория механизма действия пиридоксалевых ферментов, получившая признание как одна из первых попыток объяснения механизма ферментативных реакций. В ходе решения таких актуальных для здравоохранения задач, как разработка и внедрение в практику методов синтеза аминокислот и некоторых антибиотиков, возникло и быстро развилось новое научное направление — химия природных соединений (М.М. Шемякин и сотрудники). Группа исследователей, работавших в этой области, составила ядро созданного в 1960 г. института химии природных соединений АН СССР, получившего имя его первого директора и основателя — М.М. Шемякина.
Самостоятельной отраслью биохимии в СССР стала биохимия мышц, в развитии которой исключительную роль сыграло открытие В.А. Энгельгардта и М.Н. Любимовой (1939), доказавших способность основного сократительного вещества мышц — белка миозина область свойствами фермента, расщепляющего АТФ, распад которой является непосредственным источником энергии для сокращения мышцы. Это открытие легло в основу одного из важнейших положений общей биохимии — о трансформировании энергии окислительных процессов в химическую энергию фосфорных соединений, в первую очередь АТФ, и превращений в живой клетке химической энергии в механическую.
Успешное развитие работ в области биохимии микроорганизмов, выделение в чистом виде и детальное изучение ряда ферментов (С.Р. Мардашев, С.С. Дебов и др.) позволили в 1972 г. организовать в АМН СССР новое научное учреждение — лабораторию медицинской энзимологии (ныне институт медицинской энзимологии), решающую вопросы энзимодиагностики и энзимотерапии. Исследованиями, выполненными под руководством С.Р. Мардашева, показаны различия в путях синтеза глицина в организме здоровых животных и животных с трансплантированной опухолью, установлены особенности синтеза глицина в опухолях и организме животных-опухоленосителей. С.Р. Мардашев разработал и внедрил в клиническую практику новые биохимические методы энзимодиагностики различных заболеваний: поражений печени (в частности, вирусного гепатита), почек и поджелудочной железы. Он выделил из микроорганизма кристаллическую аспарагиназу — фермент, используемый для лечения некоторых форм лейкозов.
В 1957 г. был организован институт радиационной и физико-химической биологии, переименованный в 1965 г. в институт молекулярной биологии АН СССР (основатель В.А. Энгельгардт). В институте расшифрована первичная структура двух транспортных РНК, определена последовательность аминокислот в крупной молекуле белка, разработаны новые методы структурных исследований белков и нуклеиновых кислот и др.
Во второй половине 60—70-х гг. большое внимание уделялось разработке важнейших вопросов, объединенных общей идеей подхода к раскрытию патогенеза и изысканию новых методов лечения заболеваний человека на основе достижений современной биологической и медицинской химии. В Институте биологической и медицинской химии АМН СССР под руководством В.Н. Ореховича осуществлены фундаментальные исследования, направленные на раскрытие биохимических механизмов, лежащих в основе жизненно важных функций организма человека, на характеристику особенностей нарушений этих механизмов при заболеваниях человека (сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, болезни нервной системы, наследственные болезни) и на изыскание новых подходов к нормализации нарушений биохимических процессов в организме человека при патологических состояниях.
Современная эндокринология как наука о гормонах и гормональной регуляции функций организма достигла высокого уровня развития. Становление отечественной эндокринологии, особенно экспериментальной, неразрывно связано с научными исследованиями и научно-организаторской деятельностью И.П. Павлова и его школы, В.Д. Шервинского, В.Я. Данилевского, А.А. Богомольца, М.М. Завадовского и др. В 50—70-е гг. эндокринология как наука претерпела качественные изменения. Это явилось результатом крупных научных достижений в разработке ее фундаментальных проблем, связанных прежде всего с установлением химической структуры и выделением в чистом виде некоторых гормонов, изучением их биосинтеза, механизмов биологического действия и метаболизма в организме. Проведенные исследования позволили поставить на прочный научный фундамент и значительно продвинули изучение физиологии и патологии отдельных желез внутренней секреции, их взаимодействия и коррелятивных связей, закономерностей осуществления регуляторных функций эндокринной системы, механизмов формирования эндокринной патологии и патогенеза эндокринных болезней.
Природные гормоны и модифицированные гормональные препараты применяются во всех областях медицины, причем сфера практического использования их постоянно расширяется за счет создания гормональных препаратов с новыми лечебными свойствами.
Выявлены некоторые механизмы нарушений биосинтеза гормонов при заболеваниях щитовидной железы, сахарном диабете. Расшифрована полная химическая структура нескольких пептидно-белковых гормонов. Осуществлен полный лабораторный синтез инсулина, идентичного инсулину человека. Впервые выделен, а затем и синтезирован тетрадопептид, соответствующий фрагменту 31-44 гормона роста человека, обладающий жиромобилизирующей активностью, многократно превышающей аналогичную активность природного гормона. Внедрены в производство препарат соматотропин человека, являющийся специфическим средством для лечения гипофизарного нанизма, и альфепрол, применяемый для лечения некоторых сердечно-сосудистых болезней. Синтезирован оригинальный стероидный препарат силаболин и др.
Исследования в области общей и медицинской генетики интенсивно проводились в нашей стране с начала 20 в. В 20—30-е гг. в СССР сложились крупнейшие в мире генетические школы Н.И. Вавилова, Н.К. Кольцова, Ю.А. Филипченко, Л.С. Серебровского, были открыты кафедры генетики, генетические лаборатории в разных институтах. Были выполнены фундаментальные исследования, получившие мировое признание и не утратившие своего значения до настоящего времени. Так, Н.К. Кольцов в 1927 г. сформулировал концепцию о молекулярной структуре гена, матричном механизме передачи наследственной информации и синтеза макромолекул. Высказанная им идея, что сущность явлений наследственности надо искать в молекулярных структурах, явилась исходной для всего последующего развития молекулярной биологии. В 1931—1937 гг. Н.В. Тимофеевым-Ресовским и др. были выполнены эксперименты, ставшие основой теории кинетической зависимости инактивирующего и мутагенного эффектов ионизирующих излучений — так называемая теория мишени. В.В. Сахаров показал мутагенное действие йода, а М.Е. Лобашев в 1934—1935 гг. — аммония. В 1946 г. И.А. Рапопорт открыл мутагенное действие этиленимина, что впоследствии было использовано для создания высокопродуктивных штаммов продуцентов антибиотиков.
В 1932 г. в Москве по инициативе С.Г. Левита был организован Медико-генетический институт с целью изучения взаимодействия наследственности и среды в развитии болезней. В этом институте под руководством С.Г. Левита разрабатывались медико-генетические методы исследования, проводилось изучение цитогенетики человека, наследственных болезней человека. Впервые в мире вопрос о необходимости изучения геногеографии наследственных болезней и нормальных аллелей был поставлен советским генетиком А.С. Серебровским в конце 20-х гг. Это направление исследований очень важно для нашей многонациональной страны, расположенной на огромной территории с различными климатическими зонами. После открытия в 1922 г. Л.А. Зильбером явлений индуцированной наследственной изменчивости была показана зависимость изменений наследственных свойств микробов от изменения их условий жизни и процессов обмена веществ. Это открыло новые перспективы борьбы с инфекционными болезнями.
Исследования мутационных процессов человека составляли значительную часть медико-генетических исследований. Метод оценки интенсивности мутационного процесса был впервые предложен в 1932 г. В.П. Эфроимсоном. Изучена роль спонтанного мутационного процесса в определении частот наследственных болезней. Разработаны и усовершенствованы методы проверки и предложена практическая система оценки окружающей среды на мутагенность, используемая ныне при гигиеническом нормировании вредных факторов.
Уже в 30-е годы в СССР интенсивно развернулось изучение хромосом человека. Два наиболее важных достижения советских генетиков, приоритет которых признан зарубежными исследователями, относятся к этому периоду: были правильно идентифицированы первые 10 пар хромосом человека (А.Г. Андрее, М.С. Навашин), предложен и разработан метод культивирования лейкоцитов крови для изучения хромосом человека (Г.К. Хрущев), обеспечивший успех клинической и популяционной генетики в 60—70-х гг.
В 30-х годах сформировалась клиническая нейрогенетика, основоположником которой был С.Н. Давиденков. Он открыл явление генетической гетерогенности наследственных болезней, для объяснения полиморфизма одних и тех же нозологических форм он предложил гипотезу условного тропизма патологических задатков. По существу это была клинико-генетическая интерпретация взаимодействия генов, и именно это направление является сейчас ведущим. С.Н. Давиденков описал большое число наследственных факторов, коррелятивно влияющих на нервную систему, охарактеризовал и классифицировал более ста заболеваний ц.н.с.: сделал попытку обобщить и представить данные об эволюции генофонда человечества. Им впервые в СССР были организованы медико-генетические консультации в 1934 г. при больнице им. В.И. Ленина (Ленинград) и в 1935 г. в Институте нервно-психической профилактики (Москва).
Успешное развитие генетики в СССР было прервано. В 30-х гг. Т.Д. Лысенко вместе с И.И. Презентом и др. стал пропагандировать представления о генетике как «буржуазной лженауке». Это представление, получившее официальное признание на августовской сессии ВАСХНИЛ (1948 г.), послужило основанием для разгрома генетических исследований в нашей стране, что привело к их существенному отставанию от уровня развития мировой генетики.
Новый подъем генетических исследований в СССР начался в 60-е годы. В 1956 г. в институте биофизики АН СССР была учреждена лаборатория радиационной генетики во главе с Н.В. Тимофеевым-Ресовским. В 1957 г. в Сибирском отделении АН СССР (г. Новосибирск) был создан институт цитологии и генетики, который возглавил Н.П. Дубинин. В 1961 г. в институте молекулярной биологии была основана лаборатория (руководитель А.А. Прокофьева-Бельговская), в которой были развернуты исследования структуры и изменения хромосом в клетках человека. В ряде учреждений АМН СССР, МЗ СССР и министерств здравоохранения союзных республик организованы лаборатории и отделы, где ведутся исследования по клинической генетике (нейрогенетике, генетике психических болезней, генетике аномалий развития, цитогенетике, иммуногенетике, биохимической и популяционной генетике). В 1969 г. организован институт медицинской генетики АМН ССССР (директор Н.П. Бочков) для проведения фундаментальных исследований в этой области. В 1980-х гг. медико-генетические исследования проводились более чем в 80 учреждениях страны.
Медико-генетические исследования в нашей стране развиваются по трем основным направлениям: генетика человека и наследственные болезни: цитогенетика человека и хромосомные болезни: экспериментальная генетика. На первом направлении проведено изучение частоты и географического распространения наследственных болезней, их генетической гетерогенности, генетических механизмов патогенеза. В частности, проведены исследования по патогенезу наследственных болезней нервно-психической сферы, обмена веществ, сердечно-сосудистой системы, крови, опорно-двигательного аппарата и др. Ряд интересных фактов установлен при изучении наследственной предрасположенности к сосудистым церебральным заболеваниям и кардиоваскулярным расстройствам. Выявлены и охарактеризованы разные, в т.ч. редкие наследственные дефекты аминокислотного и углеводного обмена. Описаны новые формы нестабильного гемоглобина и гликогенозов. В области цитогенетики хромосомных болезней внедрены в практику новые диагностические методы идентификации хромосом и их отдельных участков. В области хромосомного мутагенеза впервые проведены систематические исследования закономерностей возникновения хромосомных, или геномных, мутаций на обширных популяциях, определена частота возникновения спонтанных мутаций в соматических и зародышевых клетках человека. Разработана система тестирования на мутагенную опасность химических веществ, с которыми человек контактирует в быту и на производстве. В области экспериментальной генетики широкую известность получили исследования по иммуногенетике, моделированию наследственных болезней и хромосомной патологии на лабораторных животных.
Достигнуты успехи в лечении ряда наследственных заболеваний нервной системы, которые считались неизлечимыми и заканчивались смертью или тяжелой инвалидностью (например, гепатоцеребральная дистрофия). Получены препараты, дающие хороший терапевтический эффект при таких тяжелых заболеваниях, как болезнь Галлервордена — Шпатца, торсионная дистония и др. Большое внимание уделялось диагностике гетерозиготного носительства патологических генов некоторых начальных и стертых форм ряда наследственных заболеваний нервной системы.
На основании генетических исследований улучшены методы диагностики и лечения многих наследственных болезней. Разработаны и рекомендованы к внедрению диагностические программы массовых обследований на наследственные болезни обмена веществ, биохимической диагностики эритроцитарных энзимопатий, комплексной диагностики талассемий, муковисцидоза, цитогенетической и патологоанатомической диагностики хромосомных болезней. Предложены методы дифференциальной диагностики различных форм миодистрофий, системных скелетных нарушений, экстрапирамидных заболеваний, раннего выявления глаукомы. Применяются патогенетические методы лечения наследственных болезней обмена веществ, экстрапирамидных заболеваний, пароксизмальной миоплегии и миотонии и т.д.
Перспективным направлением в профилактике наследственных болезней является изучение форм и принципов диспансерного обслуживания больных этими заболеваниями. Закладываются основы регистров по некоторым заболеваниям (фенилкетонурия, гемофилия, гемоглобинопатии, системные заболевания скелета и др.).
С 60-х гг. все большее внимание уделяется развитию фундаментальных исследований физиологических и патологических процессов, протекающих на клеточном и молекулярном уровнях. Интенсивно ведется разработка новых подходов при изучении тонкого строения хромосом человека (особенно функциональной морфологии), проведения популяционных исследований хромосомных болезней, частот и механизмов образования хромосомных аберраций, исследований по асинхронности репликации отдельных хромосомных участков, по линейной дифференцировке хромосом в нормальном и патологическом кариотипе, в т.ч. в опухолевых клетках. Большое количество работ посвящено выяснению значения хромосомных аномалий в патологии человека.
Усиление внимания к исследованиям в области молекулярной биологии привело к выяснению важнейших физико-химических основ жизнедеятельности клеток, поиску общих принципов, на которых основаны все важнейшие процессы жизнедеятельности. Уже известны в общих чертах механизмы синтеза ДНК, РНК, простых и некоторых сложных белков, коферментов, кофакторов и других соединений, необходимых для нормального существования клетки. В процессе реализации медико-биологических исследований на молекулярном уровне получены важные данные в области онкологии. В различных аспектах проводилось исследование молекулярно-биологических основ канцерогенеза, иммунологии рака, метаболизма в раковой клетке. Выделены РНК-содержащие вирусы из перевиваемых клеток человека, установлены и идентифицированы внутриклеточные предшественники некоторых из них.
Отечественными учеными впервые было показано, что онкогенные вирусы имеют систему активной встройки своего генома в генетический аппарат клетки, причем ключевым ферментом этой системы является кодируемый вирусом белок Т-антиген, способный вызвать разрыв молекулы ДНК. Эти данные имеют большое значение для раскрытия механизмов возможного развития рака вирусного происхождения. Распознавание некоторых молекулярных механизмов перерождения клеток под действием различных факторов позволило разработать новые иммунологические методы диагностики. Это направление получило всеобщее признание, а его дальнейшая разработка помогла создать и принципиально новые лекарственные препараты для лечения ряда заболеваний, в т.ч. онкологических.
Важнейшим проявлением действия физиологического направления советской М. явилось формирование в СССР общей патологии и патологической физиологии — медицинской науки, изучающей закономерности возникновения и течения болезненных процессов, а также компенсаторно-приспособительных реакций в больном организме с помощью экспериментального метода в сочетании с клиническим наблюдением. Школа патофизиологов (П.М. Альбицкий, А.В. Репрев, Е.А. Карташевский, Н.Г. Уфинский, П.П. Авроров, П.Н. Веселкин и др.), созданная В.В. Пашутиным в конце 19 — начале 20 в., изучала обмен веществ, теплообмен и газообмен при различных формах голодания и других экспериментальных патологических состояниях организма, роль эндокринных и гуморальных факторов в возникновении патологии. Особенностью московской школы патофизиологов во главе с А.Б. Фохтом было комплексное изучение болезни экспериментально-физиологическими, морфологическими и клиническими методами. Основные проблемы, которым были посвящены работы А.Б. Фохта и его учеников (А.И. Тальянцев, В.К. Линдеман, В.Г. Коренчевский, Ф.А. Андреев, Д.Д. Плетнев, Г.П. Сахаров и др.). являлись приспособительные и компенсаторные реакции организма, нервные и гуморальные механизмы регуляции функций при патологии сердечно-сосудистой, лимфатической и мочевыделительной систем. Были разработаны оригинальные методики получения экспериментальных моделей различных заболеваний сердца. В.К. Линдеман экспериментально воспроизвел цитотоксический нефрит. В.Г. Коренчевский стал одним из основоположников геронтологии.
Исследования школы патологов, созданной В.В. Подвысоцким в университетах Киева и Одессы и институте экспериментальной медицины в Петербурге (И.Г. Савченко, Л.А. Тарасевич, А.А. Богомолец и др.), посвящены вопросам онкологии, регенерации железистой ткани, эндокринологии, иммунитету и проблемам инфекционной патологии. А.А. Богомолец и его ученики (Н.Н. Сиротинин, Е.А. Татаринов, Р.Е. Кавецкий и др.) развили учение И.И. Мечникова о цитотоксинах, роли соединительной ткани в реактивности организма, внесли большой вклад в разработку проблем переливания крови, старения и эндокринной регуляции. А.А. Богомолец придавал первостепенное значение соединительной ткани, всю совокупность которой в организме он предложил называть физиологической системой соединительной ткани. Считая, что реактивность организма зависит главным образом от свойств этой системы, он предложил специфическую антиретикулярную цитотоксическую сыворотку (АЦС), имеющую целью стимулировать функции ретикулоэндотелиальной системы и усиливать продукцию защитных веществ. Позднее Р.Е. Кавецким была показана взаимосвязь между нервной системой и соединительной тканью.
Л.С. Штерн выдвинула концепцию о гематоэнцефалическом барьере, которая позволяет объяснить ряд патологических реакций и действие лечебных средств.
Физиологическое направление выразилось также в разработке и широком применении экспериментальных моделей заболеваний. Одним из ярких примеров значения метода создания экспериментальных моделей заболеваний является изучение Н.Н. Аничковым и С.С. Халатовым вопроса о сущности атеросклероза, начатое еще до революции. Путем создания ими экспериментальной модели атеросклероза была выявлена роль нарушений липидного обмена, в частности обмена холестерина. Н.Н. Аничков показал, что атеросклероз представляет собой особую нозологическую форму, в основе возникновения которой лежит первичная липидная инфильтрация стенок сосудов. Н.Н. Аничков и его ученики подвергли широкой экспериментальной проверке справедливость инфильтрационной теории атеросклероза, установили факт обратимости этого патологического процесса.
Большой вклад в развитие идей нервизма в патологии сделал А.Д. Сперанский и его сторонники. Он доказал значение нервной системы и ее образований в возникновении и развитии различных патологических процессов, в частности дистрофических изменений. В лаборатории В.С. Галкина удалось показать изменения силы и характера патологических процессов при выключении влияний коры головного мозга путем наркоза; были продемонстрированы рефлекторные механизмы и отмечено большое значение функционального состояния коры головного мозга при лихорадке; определена роль нервной системы при кислородном голодании, выявлены различия в чувствительности к нему различных отделов головного мозга, что получило непосредственное отношение к изучению проблемы оживления организмов и комплексного лечения кислородной недостаточности головного мозга.
Особенно демонстративные изменения нервной системы были обнаружены при изучении патогенеза шоковых состояний, особенно в начальной фазе шока. Были открыты явления запредельного торможения в торпидной фазе шока, что послужило основанием для разработки противошоковых средств, содержащих вещества, способствующие развитию охранительного торможения. Наряду с этим изучена роль токсемии, плазмо- и кровопотерь в развитии шока, предложены средства комплексного лечения этого тяжелого состояния. Проблемы нервной трофики, воспаления и роли нервной системы в воспалительном процессе и др. освещены в исследованиях В.В. Воронина; ученики А.Д. Сперанского (В.С. Галкин, А.М. Чернух), а также С.М. Павленко исследовали значение нервной системы в патогенезе и процессах выздоровления (саногенез). Е.А. Моисеевым, В.Н. Черниговским, С.В. Аничковым, В.В. Лариным и др. были обнаружены рефлексогенные зоны, играющие роль в регуляции кровообращения, дыхания и других функций.
Экспериментальные модели многих заболеваний, в т.ч. инфекционных, разрабатывались в лабораториях многих стран. Особую роль сыграло получение экспериментальных опухолевых процессов. Н.Н. Петров одним из первых экспериментально воспроизвел раковый процесс путем подсадок эмбриональной ткани животному в условиях его хронической интоксикации мышьяком или индолом. Экспериментальные опухоли получены при воздействии канцерогенных веществ (Л.М. Шабад), а также радиоактивных излучений или инъекций радиоактивных веществ (Н.Н. Петров и др.). При изучении сущности заболеваний с помощью экспериментальных моделей важнейшей методической особенностью является получение патологических процессов в условиях, близких к естественным (кормление животных продуктами, богатыми холестерином, при изучении атеросклероза; заражение животных путем подавления защитных приспособлений организма при создании экспериментальных моделей инфекционных заболеваний).
В СССР сложились оригинальные школы, изучавшие явления аллергии. А.М. Мелик-Меграбов впервые показал, что лейкопения — одно из ярких проявлений анафилактического шока у кроликов, является следствием миграции лейкоцитов из крови в легкие и оседания их вокруг легочных капилляров. Расстройства микроциркуляции в малом круге кровообращения при анафилактическом шоке были предметом его исследований уже в 1919 г. и привели к общепризнанным впоследствии результатам. В.Л. Лашас (ученик М. Артюса) в работе, посвященной анафилактическому шоку у кроликов (1926), раскрыл периферические механизмы нарушений кровообращения при этом сложном патологическом процессе. Он показал, что падение кровяного давления при анафилактическом шоке у животных в значительной степени определяется нарушениями функции периферических симпатических сосудодвигательных образований, главным образом в сосудах брюшной полости.
Н.Н. Сиротинин изучал изменения ретикулоэндотелиальной системы в развитии анафилаксии и показал, что ее активация в периоде сенсибилизации сменяется угнетением во время анафилактического шока. В дальнейшем он сосредоточил усилия на изучении эволюции иммунных и аллергических реакций в связи с общим учением о реактивности. Идеи Н.Н. Сиротинина по вопросам эволюции аллергических реакций получили, развитие в работах И. Штерзля (Чехословакия), Р. Гуда (США) и др. Они составляют одно из важнейших направлений в изучении природы аллергических процессов и болезней у человека и животных. В 40—50-х гг. проблемы аллергологии успешно изучались в лабораториях А.Д. Адо, Д.Е. Альперна, П.Ф. Здродовского и др. Они создали оригинальные направления в изучении патофизиологических механизмов аллергических реакций, соотношений нервных и гуморальных компонентов в измененной реактивности при аллергии. В частности, А.Д. Адо была выдвинута полиэргическая гипотеза механизма аллергических реакций и доказано, что система ацетилхолин-холинэстераза представляет важное звено в развитии аллергических реакций холинергических структур. В 60—70-х гг. во многих крупных городах организованы и работают специальные аллергологические научные учреждения, где проводятся фундаментальные исследования механизмов аллергических реакций и разрабатываются методы их специфической профилактики и терапии. Например, в аллергологическом центре в Алма-Ате под руководством Н.Д. Беклемишева развернуты исследования механизмов инфекционной аллергии при бруцеллезе, бронхиальной астме, изучаются поллинозы, выпускаются для практического использования многие виды аллергенов краевого значения; новые аутоаллергические механизмы в патогенезе бронхиальной астмы выявлены в аллергологической лаборатории Тбилисского медицинского института и т.д. Важное место в развитии аллергологии в нашей стране занимают работы советских педиатров: организована широкая сеть детских аллергологических учреждений, в которых проводится работа по профилактике и лечению бронхиальной астмы у детей, различных осложнений от прививок, разрабатываются новые методы их диагностики и лечения.
Советские патофизиологи внесли большой вклад в изучение проблемы воспаления: механической роли соединительной ткани (В.В. Воронин), процессов фагоцитоза (И.Г. Савченко и др.), химии воспаления, роли нервной системы, проницаемости и др. Установлена роль нервной системы в развитии лихорадочных состояний, значение экзогенных и эндогенных пирогенов и их влияние на гипоталамические центры терморегуляции.
В 70-х гг. одним из ведущих направлений в отечественной патофизиологии стало изучение проблемы микроциркуляции. А.М. Чернух сформулировал и активно разрабатывал концепцию о принципах структуры функционального элемента органа, включающего в себя обменные микрососуды, лимфатические капилляры, нервные образования, функционирующие клетки и соединительнотканные образования. На уровне такой микросистемы осуществляется регулирование кровоснабжения, метаболизма и функции. Получены данные о связи селективной проницаемости гистогематических барьеров с состоянием микроциркуляции, о возможности направленного изменения функции клеточных и сосудистых мембран.
Важное место в исследованиях советских патофизиологов занимает патофизиология кровообращения. Получены важные данные о роли нервной системы в регуляции кровообращения при шоке и кислородном голодании (И.Р. Петров, В.К. Кулагин), реактивности сердца в условиях патологии (С.В. Андреев), регуляции метаболизма сердца, механизме нарушений мозгового кровообращения.
В числе крупных обобщений советских патологов необходимо отметить труды, посвященные общему учению о болезни (А.Д. Адо, П.Н. Веселкин, И.В. Давыдовский, А.Д. Сперанский и др.). проблемам предболезни, выздоровления и стресса.
Отечественным ученым принадлежит приоритет в разработке проблемы оживления организма. В 1902 г. А.А. Кулябко при помощи аппарата, восстанавливающего условия раздражения и питания сердечной мышцы, оживил сердце человека через 20 ч после смерти. В 1912 г. Ф.А. Андреев получил удачные результаты оживления организма животного. В СССР разработана новая методика и создана оригинальная аппаратура искусственного кровообращения, проведены уникальные опыты на изолированной голове собаки (С.С. Брюхоненко, С.И. Чечулин). Возникла новая область исследований — патофизиология терминальных состояний. Под руководством В.А. Неговского проведено изучение основных закономерностей умирания и оживления организма. На основании полученных данных сформулированы и введены в научную практику понятия клинической и биологической смерти, изучена патология важнейших органов и систем организма при умирании от различных причин и при последующем оживлении (например, при кровопотере, шоке, электротравме, утомлении, отравлениях, при асфиксии новорожденных, отеке легких, инфаркте миокарда и т.д.). Результаты теоретических исследований и клинических наблюдений позволили разработать комплексный метод оживления при агонии и клинической смерти, который начал применяться уже в годы Великой Отечественной войны.
Использование цитологических методов в патофизиологии привело к возникновению нового ее раздела — патофизиологии клетки. Усилиями советских и американских ученых разрабатывается раздел патофизиологии, посвященный изучению действия на организм космических факторов. Одна из важных задач патологической физиологии, основными составными частями которой являются общая патофизиология (общая патология), патофизиология органов и систем и клиническая патофизиология, заключается в характеристике патологического процесса в динамике с позиций системного подхода, органически соединяющего структурный и функциональный анализ, установление связи между функциями, кровообращением, обменом веществ и структурой.
Советские ученые осуществляют обширную программу фундаментальных исследований по проблеме адаптации человека к различным географическим, климатическим и производственным условиям. Изучение патологии человека в непрерывной связи с природной средой его обитания и трудовой деятельностью, т.е. географической патологии, особенно важно для нашей страны с ее разнообразием климатических природных зон и наличием обширных территорий, относящихся к так называемым экстремальным зонам. В результате экспедиционных исследований в районах Крайнего Севера получены интересные данные, научная интерпретация которых позволила сформулировать концепцию о «синдроме полярного напряжения» как самостоятельном признаке предпатологических состояний человека в условиях жизни на Севере. Получены новые данные, доказывающие, что процесс адаптации человека к условиям Крайнего Севера сопровождается изменением ряда физико-химических параметров клеточных мембран. Эти данные могут лечь в основу критериев отбора людей для работы в условиях Крайнего Севера. Анализ экспедиционного материала позволил выявить наличие у «пришлого» населения циркадных и аркадных гормональных метаболических ритмов.
Основоположником советской фармакологии был Н.П. Кравков — автор трудов, посвященных изучению действия лекарственных веществ на организм, зависимости фармакологического эффекта от дозы или концентрации вещества, комбинированному действию веществ, привыканию тканей к ядам. Он создал учение о фазном действии лекарственных веществ и разработал ряд методов изучения их эффекта на изолированных органах, которые применяются в фармакологических и физиологических лабораториях всего мира. В 1922 г. Н.П. Кравков впервые применил метод изолированных органов для изучения функции эндокринных желез и прямого действия ядов на их секрецию. Он впервые в мире использовал изолированные органы человека — сердце, почки и селезенку, а также пальцы — для исследования функциональной способности сосудов в норме и при различных заболеваниях, а также оживления умерших тканей. Н.П. Кравков первый предложил внутривенный гедоналовый наркоз, который был введен в хирургическую практику С.П. Федоровым. Ему принадлежит идея комбинации гедонала с хлороформом, послужившая началом применения снотворных средств для общей анестезии (так называемый базисный наркоз) Труды Н.П. Кравкова положили начало сравнительной и эволюционной фармакологии, фармакологии патологических процессов, промышленной и медикаментозной токсикологии. Одним из основоположников советской промышленной токсикологии был Н.В. Лазарев, выполнивший теоретические исследования о связи между физико-химическими свойствами веществ и их биологической активностью. Н.В. Лазарев развил учение о средствах для наркоза, теоретически обосновал и экспериментально доказал наркотическое действие инертных газов, показал связь физико-химических и химических свойств веществ и их токсичности. Один из основоположников промышленной токсикологии в СССР и учения о токсикометрии промышленных ядов Н.С. Правдин разработал первую классификацию промышленных ядов по производственному признаку, предложил оценку степени токсичности химических соединений по пороговым концентрациям, ввел понятие об интегральном пороге токсического действия (по современной терминологии «порог острого действия»), что в свое время имело решающее значение для установления ПДК. Одним из основоположников отечественной токсикологии боевых отравляющих веществ был А.А. Лихачев. Продолжателем этого направления исследований, автором трудов, посвященных вопросам военной токсикологии и санитарно-химической защиты войск, стал Ю.В. Другов.
На протяжении многих лет под руководством А.И. Черкеса проводились исследования в области экспериментальной терапии при отравлениях солями тяжелых металлов (свинец, мышьяк, кадмий и др.), окисью углерода, бензолом, его производными. На основании анализа токсикодинамики гипоксических ядов он создал классификацию токсических гипоксий.
Большой вклад в разработку экспериментально-биологических основ фармакологии и токсикологии внес М.П. Николаев — один из основоположников биологической стандартизации комплексных препаратов растительного и животного происхождения, в т.ч. гормональных препаратов. На животных с экспериментально вызванными патологическими состояниями он показал особенности действия многих лекарственных веществ, разработал патологическую фармакологию и ввел преподавание курса клинической фармакологии на медицинских факультетах. На становление клинической фармакологии существенное влияние оказали работы терапевтов Б.Е. Вотчала и И.А. Кассирского. Б.Е. Вотчал в 40—60-е гг. создал ряд функционально-диагностических методик для объективной оценки клинического эффекта бронхолитических средств, аналептиков, отхаркивающих, противовоспалительных, вазоактивных и других фармакологических препаратов. В.И. Скворцов исследовал биохимические механизмы действия лекарственных веществ, влияющих на в.н.с., разрабатывал методы лекарственной регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы. А.И. Черкесу принадлежат труды, посвященные биохимической фармакологии сердечно-сосудистых средств. Он исследовал вопросы фармакологической регуляции сосудистого тонуса с применением ганглиоблокаторов, симпатолитиков, альфа- и бета-адреноблокаторов, ингибиторов моно-аминоксидазы. В.В. Закусов установил угнетающее влияние нитратов, наркотических анальгетиков на центральные звенья нейрональной регуляции коронарного кровообращения. На основании исследований влияния фармакологических средств на синаптическую передачу возбуждения в ц.н.с. он внес существенный вклад в теорию синаптического действия веществ. В.В. Закусовым с сотрудниками предложены новые психотропные препараты, анестетики, миорелаксанты и ганглиоблокаторы, противоаритмические средства и др. С.В. Аничковым осуществлены исследования по фармакологии каротидных химиорецепторов, по действию строфантина на сердечный препарат Павлова — Старлинга, по вопросам нейрофармакологии, выделены центральные холинолитики в особую группу. Исследования последних лет, выполняемые различными коллективами фармакологов и клиницистов в области клинической фармакологии, фармакодинамики и фармакокинетики, направлены на выявление полезного эффекта лекарства с определением диапазона доз препарата в зависимости от характера патологии и индивидуальных особенностей больного; изучение взаимодействия одних медикаментов с другими; изучение динамики фармакологического эффекта при длительном применении препарата с целью научного обоснования эффективной и безопасной фармакотерапии. Н.В. Вершинин с сотрудниками изучил и внедрил в практику сибирскую левовращающую камфору, что освободило СССР с 1936 г. от импорта камфоры. Детальное исследование многочисленных дикорастущих лекарственных растений позволило выделить из них вещества, обладающие лечебным действием. Такие вещества, как платифиллин, пахикарпин и другие, нашли широкое применение в клинике. Столь же большие успехи достигнуты и в области синтеза новых лекарственных, в т.ч. химиотерапевтических, средств.
О.Ю. Магидсон получил оригинальный препарат плазмоцид, а И.Л. Кричевский экспериментально изучил его действие. В 1936—1937 гг. в СССР было налажено систематическое производство плазмоцида, а затем акрихина, что способствовало успешной борьбе с малярией. После опубликования работ Г. Домагка в СССР началась разработка сульфаниламидных соединений. На базе Всесоюзного научно-исследовательского химико-фармацевтического института были синтезированы все основные формы сульфаниламидных препаратов, что сыграло важную роль в эффективном лечении ряда заболеваний. В 1949—1950 гг. коллектив латвийских ученых под руководством Э.М. Буртнека изучил и внедрил в клиническую практику парааминосалициловую кислоту (ПАСК) — препарат для лечения туберкулеза.
С конца 30-х гг. работами Н.А. Красильникова, изучавшего распространение в природе актиномицетов, последующими работами З.В. Ермольевой, Г.Ф. Гаузе, исследовавших антибактериальные свойства почвенных и других микроорганизмов, было положено начало развитию производства антибиотиков. Отечественный препарат пенициллина был получен в 1942 г. З.В. Ермольевой и Т.И. Балезиной. В том же году в СССР Г.Ф. Гаузе и др. был получен антибиотик грамицидин. В дальнейшем был выделен ряд новых антибиотиков, обладающих различным действием (С.М. Навашин и др.).
В результате многолетних научных исследований были получены и внедрены в медицинскую практику психотропные средства (нейролептики, транквилизаторы, антипаркинсонические и антиманиакальные препараты), лекарства для предупреждения и лечения сердечно-сосудистых заболеваний (антиаритмические, коронарорасширяющие, антисклеротические), противоопухолевые и др. фармакологические препараты.
Дальнейшее развитие получили теоретические исследования, посвященные изучению фармакологического воздействия на процессы нейрогуморальной регуляции системного и регионарного кровообращения, участия центральных и периферических адренергических процессов в реализации эффектов сердечно-сосудистых лекарственных средств.
Клиническая медицина. Развитие терапии в СССР в значительной мере связано с деятельностью основоположников советской клиники внутренних болезней Д.Д. Плетнева и М.П. Кончаловского (в Москве), Г.Ф. Ланга (в Ленинграде), Н.Д. Стражеско (в Киеве), С.С. Зимницкого (в Казани), М.Г. Курлова (в Сибири) и созданных ими научных школ. Общим объединяющим началом для этих научных школ был комплексный естественнонаучный подход к проблемам патологии, связь их тематики с узловыми проблемами здравоохранения и принципом профилактики, широкое применение клинико-экспериментального метода, сочетающегося с изучением больного в социальном окружении. Развивая вслед за А.А. Остроумовым учение о целостном личности больного («антропопатология», по Д.Д. Плетневу), которую нельзя подменить самым тщательным изучением больного органа («органопатология»), придавая особое значение корреляции функций в организме, регуляторной роли нервных и гуморальных факторов, внедряя методы функциональной диагностики, Д.Д. Плетнев оказал огромное влияние на формирование клинического мышления нескольких поколений врачей.
Особенно большое значение имели работы Д.Д. Плетнева с сотрудниками, посвященные вопросам кардиологии: функциональной диагностике заболеваний сердца и сосудов, нарушениям ритма сердца, клинике стенокардии и инфаркта миокарда, аневризмы сердца, сифилиса сердечно-сосудистой системы, лечению недостаточности кровообращения. Предложенные им в 1925 г. дифференциально-диагностические признаки тромбоза правой и левой венечной артерии получили широкое признание.
В дальнейшем в клинике 1 ММИ, которой руководил В.Н. Виноградов, была организована (1946) электрофизиолог, лаборатория АМН СССР и открыто (1961) первое в Советском Союзе отделение для лечения больных инфарктом миокарда, осложненным синдромом острой сердечно-сосудистой недостаточности. Эта клиника была инициатором немедленной госпитализации больных инфарктом миокарда и создания в Москве и в крупных городах страны специализированной противоинфарктной службы скорой помощи.
Большие заслуги в развитии функционального и профилактического направлений в клинических исследованиях принадлежат Г.Ф. Лангу и его научной школе (А.Л. Мясников, Б.В. Ильинский, Т.С. Истаманова, А.А. Кедров и др.). Начиная с 1922 г. Г.Ф. Ланг разрабатывал учение о гипертонической болезни, ее нейрогенной природе и путях борьбы с ней; предложил и внедрил в практику систему диспансеризации больных гипертонической болезнью в транзиторной фазе и в «прегипертонической фазе». Г.Ф. Ланг выявил связь электрокардиографических изменений с определенными биохимическими нарушениями и сердечной мышце и предложил новый термин «дистрофия миокарда» для обозначения заболеваний сердечной мышцы, в основе которых лежат обратимые расстройства биохимических и физико-химических процессов в сердце экзогенной и эндогенной природы. Г.Ф. Ланг разработал классификацию болезней сердечно-сосудистой системы, развил функциональное направление в гематологии. Его научно-методические установки взяты на вооружение современной кардиологией.
Экспериментально-физиологическое направление клинической М. с широким использованием достижений и методов теоретической М. Развивал Н.Д. Стражеско. Он описал ряд синдромов и симптомов при сердечно-сосудистых заболеваниях, разработал учение о функциональной недостаточности кровообращения, совместно с В.X. Василенко создал классификацию недостаточности кровообращения, которая принята XII Всесоюзным съездом терапевтов. Описал закономерности соотношения сердечной астмы и стенокардии (грудной жабы), научно обосновал теорию ревматизма как инфекционно-аллергического заболевания стрептококковой этиологии. Аналогичные представления об инфекционно-аллерго-неврогенной природе ревматизма развивал М.В. Черноруцкий. Клинико-физиологический подход к решению проблем кардиологии был характерен для научной деятельности В.Ф. Зеленина, который внес существенный вклад в разработку и клиническую апробацию теоретических основ электрокардиографии.
Комплексные клинико-теоретические исследования выполнены учеником Д.Д. Плетнева и Г.Ф. Ланга А.Л. Мясниковым и его школой (З.М. Волынский, Н.Н. Кипшидзе, Н.Р. Палеев, Е.И. Чазов, И.К. Шхвацабая, З.И. Янушкевичус и др.) по проблемам гипертонической болезни, атеросклероза, инфаркта миокарда и патологии печени А.Л. Мясников сыграл определяющую роль в становлении кардиологии как самостоятельной научно-учебной дисциплины и врачебной специальности, в организации Института кардиологии АМН СССР. Исследования в области гипертонической болезни и атеросклероза, проводившиеся под руководством А.Л. Мясникова, получили высокую оценку и международное признание (присуждение А.Л. Мясникову звания лауреата премии «Золотой стетоскоп» — высшей награды Международного кардиологического общества).
Развитие теоретических исследований, методов диагностики (электрокардиографических, биохимических, рентгенокардиологических и др.) и лечения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями явилось предпосылкой для выделения в 60-х гг. кардиологии в самостоятельную область М. В 1962 г. вышел в свет 1-й номер журнала «Кардиология», в 1963 г. было организовано Всесоюзное кардиологическое общество. Важной мерой организационного укрепления советской кардиологии, концентрации сил и средств на разработке магистральных ее направлений, улучшения методического руководства исследованиями и организацией кардиологической службы в масштабах страны явилось создание по инициативе Е.И. Чазова Всесоюзного кардиологического научного центра АМН СССР (1975).
Советским кардиологам удалось выявить пути образования и передачи энергии в миокарде, установить зависимость эффективности работы сердечной мышцы от концентрации фермента кальцийзависимой аденозинтрифосфатазы, получить медленно растворяющиеся препараты ряда иммобилизированных на полимерных носителях ферментов. Необходимо отметить вклад отечественных ученых в изучение роли нервных механизмов в регуляции кровообращения в норме и патологии. В этом направлении были получены данные, свидетельствующие о том, что нейрогенная констрикция коронарных сосудов обусловлена одновременным возбуждением симпатического и парасимпатического отделов в.н.с. и что эта реакция усиливается при угнетении анаэробного обмена в миокарде. С другой стороны, изучение соотношений между энергетическим обменом в миокарде, коронарным кровотоком и сердечной деятельностью позволило установить изменение реактивности коронарных сосудов, ведущее в условиях ишемии к усилению сосудосуживающих реакций.
Установлен принципиально новый механизм возникновения патологических состояний, обусловленный подавлением потенциальных водителей ритма сердца и высокой частотой возбуждений. Показано, что возбудимость сердечной мышцы и ритм сокращений сердца в значительной степени определяются внутрисердечной нервной системой. В результате экспериментальных и клинических исследований выявлена важная роль иммунологических процессов в патогенезе атеросклероза. Разработаны новые методы лечения артериальной гипертонии, позволяющие получать стойкий эффект даже при так называемых злокачественных гипертониях; методы диагностики и лечения инфаркта миокарда и его осложнений.
Достижения кардиологии успешно используются в практике здравоохранения. Так, интенсивное лечение больных инфарктом миокарда в специализированных блоках (созданы во многих городах СССР) способствует снижению смертности от этого заболевания. Разработанная система поэтапного обследования больных артериальной гипертонией при внедрении ее в практику поликлинической работы позволила значительно улучшить диагностику симптоматических форм заболевания и благодаря этому обеспечить более эффективное лечение больных. Применение принципов и методов дифференцированного лечения больных гипертонической болезнью обеспечивает снижение трудовых потерь от этого заболевания.
В тесной связи с кардиологией формировалась ревматология. В области изучения ревматизма и так называемых ревматических заболеваний значительный вклад внесли исследования патоморфологов В.Т. Талалаева, М.А. Скворцова, А.И. Струкова, клиницистов М.П. Кончаловского, Н.Д. Стражеско, Г.Ф. Ланга, А.А. Киселя, Э.М. Гельштейна, И.А. Кассирского, Е.М. Тареева и их сотрудников. В результате многолетних комплексных исследований советскими учеными обосновано представление о ревматизме как системном заболевании, в основе которого лежит поражение соединительной ткани инфекционно-аллергического генеза. В разработке проблем ранней диагностики, лечения и профилактики ревматизма и других ревматических заболеваний большую роль сыграли исследования сотрудников института ревматизма АМН СССР, проведенные под руководством А.И. Нестерова и В.А. Насоновой. Особенности течения ревматизма у детей изучали коллективы педиатров под руководством А.А. Киселя, В.И. Молчанова, В.П. Бисяриной и др.
Развитие учения о болезнях органов пищеварения является ярким примером влияния достижений физиологической школы И.П. Павлова на клиническую М. Так, благодаря совместным исследованиям М.П. Кончаловского и И.П. Разенкова, а также экспериментам Н.Н. Бурденко и Б.Н. Могильницкого, А.Д. Сперанского и др. был установлен неврогенный генез язвенной болезни. М.П. Кончаловский успешно разрабатывал общие (методологические) проблемы клиники внутренних болезней: учение о предболезни, о циклическом течении болезней, о предупредительном лечении, о социальном подходе к вопросам профилактики и терапии, что получило яркое воплощение в деятельности возглавлявшегося М.П. Кончаловским Всесоюзного комитета по изучению ревматизма и борьбе с ним. Ученик М.П. Кончаловского Е.М. Тареев и его клиническая школа сыграли важную роль в успешном изучении патологии печени, ревматических заболеваний, так называемой лекарственной болезни, в становлении нефрологии. Под руководством Е.М. Тареева изучались этиология, патогенез, клиника и лечение нефритов, амилоидоза, хронической уремии, применения программного гемодиализа. Развитие учения о болезнях почек, связанное в СССР с работами С.С. Зимницкого, М.И. Вихерта, М.С. Вовси, Е.М. Тареева и др., применение специальных методов исследования (в т.ч. прижизненные исследования пунктатов почек) и лечения (активные методы терапии почечной недостаточности и др.) привели к выделению в самостоятельный научный раздел внутренних болезней нефрологии.
Формирование и развитие гастроэнтерологии испытало на себе значительное влияние исследований школы И.П. Павлова по физиологии пищеварения. Это влияние особенно отчетливо прослеживается в трудах Н.Д. Стражеско, посвященных основам физической диагностики органов пищеварения (1924) и Н.И. Лепорского, предложившего в 1921 г. способ изучения функционального состояния желудка (помоментное исследование содержимого желудка с помощью тонного зонда и капустного сока в качестве пробного завтрака), который широко вошел в лечебную практику. В клинико-физиологических исследованиях Н.И. Лепорский выяснил закономерности поступления желчи в двенадцатиперстную кишку, а также секреторной деятельности желудка и поджелудочной железы при введении в организм различных видов пищи. Основываясь на достижениях школы И.П. Павлова, М.П. Кончаловский развивал клинико-физиологическое направление внутренней медицины. Его труды посвящены изменениям секреторной функции и так называемым неврозам желудка, хроническому гастриту, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, желчнокаменной болезни, функциональной диагностике поражений печени. Он описал гепатолиенальный синдром (1928) язвы желудка и двенадцатиперстной кишки не как местные процессы, а как общее заболевание организма. С.М. Рысс, изучавший желудочную секрецию и желчеобразовательную функцию печени, сочетал физиологическое и клинико-морфологическое направления в гастроэнтерологии. Он пропагандировал клиническое применение методов морфологической диагностики (биопсия, цитологическая диагностика и др.). Возглавляемые им клиника и лаборатория стали первым учебно-методическим центром советской гастроэнтерологии. М.И. Певзнер положил начало научной разработке лечебного питания в СССР. В 1921 г. по инициативе М.И. Певзнера при курортной клинике было организовано отделение болезней органов пищеварения и лечебного питания, которое в 1930 г. вошло в качестве клиники лечебного питания в институт питания.
В.X. Василенко создал школу гастроэнтерологов, которая внесла большой вклад в разработку актуальных проблем гастроэнтерологии (вариабельность клиники язвенной болезни, диагностика заболеваний пищевода, нарушения секреторной и моторной функции органов пищеварения, ранняя диагностика рака желудка, клиника и лечение послерезекционных синдромов, нарушения кишечного всасывания, диагностика заболеваний толстой кишки и др.). По инициативе и при непосредственном участии В.X. Василенко в 1967 г. создан Всесоюзный НИИ гастроэнтерологии МЗ СССР.
Правильному пониманию патогенеза и клиники хронического гастрита и связи его с язвенной болезнью способствовали исследования Р.А. Лурии. Ю.М. Лазовского. Существенным вкладом в изучение патологии пищеварения явились открытые А.М. Уголевым в 1959 г. явления мембранного (пристеночного) пищеварения и разработка методов его исследования для клинической практики.
Проблемам патологии органов дыхания (острые пневмонии, хронические неспецифические заболевания легких, нагноение легких) посвящены труды М.П. Кончаловского, М.Д. Тушинского и др. Г.Ф. Ланг, В.Н. Виноградов, Б.Е. Вотчал и их сотрудники разработали и внедрили ряд методов диагностики, в т.ч. функциональной, заболеваний органов дыхания, исследовали вопросы патогенеза, диагностики и лечения хронических пневмоний, легочно-сердечной недостаточности и др. Наряду с терапевтами в разработке этих проблем активно участвовали микробиологи, морфологи, патофизиологи, хирурги. Работами Г.В. Выгодчикова, В.Д. Тимакова и др. было установлено уменьшение роли пневмококка и усиление роли микроорганизмов, считавшихся ранее условно патогенными, в этиологии острой пневмонии. Успехи, достигнутые в области вирусологии, позволили утверждать, что в большом проценте случаев возникновение острой пневмонии обусловливается тем или иным вирусом. Многочисленными исследованиями показана роль нарушений функций нервной системы, внешнего дыхания, иммунобиологических реакций в патогенезе пневмоний. Исследования А.И. Абрикосова, И.В. Давыдовского, В.Д. Цинзерлинги и др. в значительной степени изменили представления о морфологических изменениях при острых и хронических пневмониях.
Как самостоятельный раздел медицинской науки, изучающий туберкулезные заболевания легочной и внелегочной локализации, развивалась фтизиатрия. Морфологические исследования А.И. Абрикосова, В.Г. Штефко, А.И. Струкова, патофизиологическое направление основных работ-школ В.А. Воробьева и А.Я. Штернберга, клинические исследования Ф.Г. Яновского, А.А. Киселя (выделил особую форму заболевания у детей — хроническую туберкулезную интоксикацию без локальных изменений), Г.Р. Рубинштейна, А.Е. Рабухина и др. обусловили достижения советской фтизиатрии. Вопросы патогенеза, клиники и лечения костно-суставного туберкулеза были всесторонне изучены крупными хирургами Т.П. Краснобаевым и П.Г. Корневым. Были созданы оригинальные организационные формы борьбы с туберкулезом.
Многие отечественные ученые внесли существенный вклад в формирование и развитие гематологии. А. А. Максимов обосновал так называемую унитарную теорию кроветворения, указал источники возникновения и значение свободных макрофагов, названных им полибластами. А.Н. Крюков разрабатывал умеренно-унитарную теорию кроветворения, на основании прижизненного изучения костного мозга впервые обнаружил мегалобластическое кроветворение при пернициозном спру (анемии) и выяснил роль нарушенного кишечного всасывания в се развитии. М.И. Аринкин предложил в 1927 г. оригинальный и простой метод исследования костного мозга — прижизненную пункцию грудины. X.X. Владос предложил классификации анемий (с М.С. Дульциным), лейкозов (с Н.А. Краевским), схему нормального кроветворения с позиций унитарной теории и нормы соотношения форменных элементов стернального пунктата (с Ф.Э. Файнштейном). Он обосновал принципы эритроцитотерапии при анемических состояниях и лейкозах, гемотерапии при гемолитических анемиях и др. А.Д. Тимофеевский совместно с С.В. Беневоленской наблюдал превращение незернистых элементов крови в макрофаги и клетки фибробластического ряда. Г.Ф. Ланг, М.П. Кончаловский и М.Д. Тушинский выполнили ряд работ по функциональной гематологии и регуляции системы крови. И.А. Кассирский впервые в СССР применил пункцию лимфатических узлов и внутренних органов для цитологической диагностики: в 1942 г. предложил внутригрудинное переливание крови. Он создал учение об аутобиологических факторах ремиссий при лейкозах, о морфодинамизме болезней системы крови; выдвинул генетическую концепцию возникновения наследственных болезней крови, впервые предложил первичносдерживающую химиотерапию хронического лимфолейкоза. Ю.И. Лорие предложил клинико-лабораторное выделение аутоиммунной гемолитической анемии как нозологической формы, разработал клиническую тактику ее гормонального лечения и внедрил в практику полихимиотерапию острых лейкозов. С его именем связано становление клинической иммуногематологии в нашей стране.
В результате комплексных исследований с использованием современных цитологических методов советскими гематологами получена морфологическая и функциональная характеристика гемопоэтических клеток на всех стадиях дифференцировки, изучены процессы пролиферации и кинетики кроветворения. Получены данные, свидетельствующие о клональной сущности лейкозов и их мутационной природе. Разработаны и внедрены в практику новые методы диагностики и лечения лейкозов и ряда других гематологических заболеваний — приобретенных и наследственных анемий, геморрагических диатезов и т.д.
С именами терапевтов В.Д. Шервинского, Н.А. Шерешевского, В.М. Коган-Ясного, В.Г. Баранова, невропатолога Н.М. Иценко, хирургов В.А. Оппеля, А.В. Мартынова и др. связано становление и развитие эндокринологии, успехи в изучении природы заболеваний желез внутренней секреции, методов их консервативного и хирургического лечения. Основоположник клинической эндокринологии в СССР В.Д. Шервинский в 1919 г. возглавил лабораторию, преобразованную в 1923 г. в институт органотерапевтических препаратов, на базе которого в 1925 г. был создан институт экспериментальной эндокринологии (ныне институт экспериментальной эндокринологии и химии гормонов АМН СССР). Совместно с Г.П. Сахаровым он опубликовал первый отечественный учебник по эндокринологии. В.Д. Шервинский внес большой вклад в развитие промышленности отечественных гормональных препаратов, создание сети специализированной эндокринологической помощи населению и подготовку кадров эндокринологов. Н.А. Шерешевский в 1925 г. впервые выявил генетически обусловленную форму первичного агонадизма, позднее описанную американским эндокринологом Г. Тернером и получившую название синдрома Шерешевского — Тернера. Он предложил метод подготовки к операции больных диффузным токсическим зобом, заключающийся в назначении препаратов йода, валерианы и люминала, известный как метод Шерешевского. В.М. Коган-Ясный совместно с В.Я. Данилевским основал в 1919 г, органотерапевтический институт (Украинский институт эндокринологии), В 1930 г. он организовал первую в СССР эндокринологическую клинику; впервые в СССР (1923) в лаборатории В.Я. Данилевского получил инсулин и применил его в клинической практике. В.Г. Баранов внес существенный вклад в решение вопросов о патогенезе и лечении сахарного диабета, создал представление об относительной и абсолютной инсулиновой недостаточности. Разработал модель экспериментального сахарного диабета. Выяснил роль гипоталамуса и гипофиза в патогенезе зоба. Н.М. Иценко в 1925 г. описал заболевание гипофиза и межуточного мозга, характеризующееся избыточной продукцией гормонов коркового вещества надпочечников (Иценко — Кушинга болезнь). В.А. Оппель, А.В. Мартынов, О.В. Николаев и др. внесли большой вклад в разработку методов хирургического лечения заболеваний эндокринных желез. Коллективами советских эндокринологов внедрены в практику более совершенные методы определения гормонов в биологических жидкостях, диагностики эндокринных заболеваний, особенно начальных и стертых форм. Разработан новый метод определения проинсулина у больных сахарным диабетом с помощью специфической протеазы. Показано, что в патогенезе некоторых форм сахарного диабета важную роль могут играть аутоиммунные процессы: антитела к инсулину, вырабатывающиеся в процессе инсулинотерапии, ухудшают течение диабета и способствуют развитию поражений сосудов типа микроангиопатий. Обоснована теоретическая концепция и разработана клиническая тактика компенсации нарушений обменных процессов у больных сахарным диабетом. Усовершенствованы методы лечения сахарного диабета и его осложнений у взрослых и детей. Предложен способ лечения липодистрофий свиным инсулином. Достигнуты успехи в своевременном выявлении и лечении больных сахарным диабетом и др. эндокринными болезнями и в организации диспансерного наблюдения за ними. В трудные годы гражданской войны, голода и послевоенной разрухи многие видные русские хирурги самоотверженно работали в госпиталях и больницах, закладывая основы советской хирургии. Большие достижения в области хирургии связаны с деятельностью С.П. Федорова, создавшего школу хирургов (П.А. Куприянов, Н.Н. Еланский, В.Н. Шамов и др.), оставившего основополагающие труды по хирургии мочевых и желчных путей. Работы И.И. Грекова, А.В. Мартынова, С.И. Спасокукоцкого, А.Г. Савиных, С.С. Юдина, Ю.Ю. Джанелидзе и др. внесли крупный вклад в развитие брюшной и неотложной хирургии; П.А. Герцен и Н.Н. Петров заложили основы онкологии в СССР; В.А. Оппель и Н.Н. Бурденко сыграли особую роль в становлении советской военно-полевой хирургии.
Основными факторами прогресса в хирургии явились успехи обезболивания, профилактики послеоперационных осложнений, достижения в инструментальной технике, разработка методов переливания крови и трансплантации органов и тканей, мер по обеспечению безопасности больного на всех этапах хирургического лечения. Новыми для советской хирургии стали проблемы искусственной гипотермии, нейролептаналгезии, дефибрилляции сердца, искусственного дыхания, гипербарической оксигенации и др. В частности, советскими учеными разработаны теория влияния на организм искусственного кровообращения, метод сочетанного применения искусств, кровообращения и гипербарической оксигенации, благодаря которому значительно повысились лечебный эффект и безопасность операций на сердце.
Необходимость комплексного изучения организационных, диагностических и лечебно-тактических вопросов ургентной хирургии привела к созданию специальных научно-исследовательских институтов (Московский научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Ленинградский научно-исследовательский институт скорой помощи им. Ю.Ю. Джанелидзе и др.), успешно решающих проблемы неотложной хирургии, и прежде всего определение тактики экстренного хирургического вмешательства при остром аппендиците. перфоративной язве желудка, кишечной непроходимости и т.д.
А.В. Вишневский в 20-х гг. предложил метод местного обезболивания при помощи тугого ползучего новокаинового инфильтрата, который вошел в лечебную практику. В 1920—1925 гг. С.С. Брюхоненко был разработан метод искусственного кровообращения и создан первый в мире аппарат искусственного кровообращения, позволивший начать изучение центрального действия фармакологических веществ. Этот метод позже был применен для операций на сердце, использован для оживления организма после наступления клинической смерти. В 1936 г. была создана лаборатория, в которой на основании работ Ф.А. Андреева был применен метод оживления организма восстановлением сердечной деятельности при помощи центрального артериального нагнетания крови с адреналином в сочетании с вдуванием воздуха в легкие при помощи специальных аппаратов искусственной вентиляции легких — так зарождалась отечественная реаниматология.
К 1941 г., к началу Великой Отечественной войны советская хирургия окрепла, обогатилась новыми методами лечения ран; сформировались выдающиеся хирургические школы.
В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. основная тяжесть медпомощи раненым легла на плечи хирургов. Эффективность советской военно-полевой хирургии была доказана на практике: удалось добиться возвращения в строй свыше 72% раненых. Исключительны заслуги ведущих хирургов того времени: Н.Н. Бурденко, И.Г. Руфанова, П.А. Куприянова, А.Н. Бакулева, М.Н. Ахутина, С.С. Гирголава, Ю.Ю. Джанелидзе, В.С. Левита и др.
Прогресс хирургии неразрывно связан с научно-технической революцией. Атомная энергия, ультразвук, электроника и компьютеры, лазеры, современная оптика и макрохирургическая техника, криотехника, комплексы гипербарической оксигенации и многие другие достижения науки и техники нашли применение в хирургии.
В содружестве физиологии и хирургии были созданы научные направления и методы, без которых немыслимо дальнейшее развитие клинической М.: это клиническая физиология, реаниматологая, искусственное кровообращение, баротерапия и многое др.
Большую роль сыграли достижения анестезиологии, развитие ее материально-технической базы. Созданы современные советские наркозно-дыхательные аппараты, первые советские клинические варианты совершенной контрольно-диагностической аппаратуры («Симфония» и др.), позволяющей своевременно осуществлять коррекцию основных жизненных функций организма.
Успешно развивались исследования в области переливания крови. В 1926 г. создан первый в мире институт гематологии и переливания крови в Москве, организатором и руководителем которого был А.А. Богданов. Прогрессу трансфузиологии в значительной мере способствовала деятельность А.А. Богомольца, С.И. Спасокукоцкого, С.С. Юдина, В.Н. Шамова, А.А. Багдасарова, А.Н. Филатова и др.
С 1962 г. в СССР разрабатывается метод гипербарической оксигенации, который применяется в предоперационной подготовке больных и в практике интенсивной терапии у послеоперационных больных — при гипоксии мозга, печени, почек, воздушной эмболии. Баротерапия эффективна и при анаэробной инфекции. Введение в эксплуатацию крупнейшего в мире комплекса гипербарической оксигенации в институте клинической и экспериментальной хирургии МЗ СССР (Б.В. Петровский, С.Н. Ефуни) в значительной степени расширило возможности для проведения исследований в этой области. Операции в условиях барокамеры успешно проводились в институте сердечно-сосудистой хирургии им. А Н. Бакулева АМН СССР (В.И. Бураковский) и ряде других учреждений.
Достижения в оперативном лечении болезней сердца, легких, желудка, пищевода, сосудов, суставов связаны с внедрением оригинальных способов пластики, в т.ч. аллопластики, реконструкции, трансплантации. Важную роль в развитии реконструктивной и восстановительной хирургии сыграла кожная пластика стебельчатым лоскутом по В.П. Филатову.
Широко известна роль советских ученых в развитии хирургии пищевода. Так, П.А. Герцен еще в 1907 г. демонстрировал первую в мире удачную апробацию антеторакальной пластики пищевода из тонкой кишки; С.С. Юдин разработал оригинальный способ создания искусственного предгрудинного пищевода из тонкой кишки и выполнил 300 таких операций. Его книга «Восстановительная хирургия при непроходимости пищевода» (1954) является классическим трудом. Первые успешные операции по поводу рака грудного отдела пищевода, выполняемые из трансторакального доступа, проведены в нашей стране в 1945—1946 гг. (В.И. Казанский, Б.В. Петровский). В результате широкого внедрения этого метода в хирургическую практику были спасены тысячи жизней. Разработаны и внедрены в практику методы лечения доброкачественных заболеваний пищевода — рубцовых структур, лейкомиом, кардиоспазма и др. Совершенствование техники оперативных вмешательств позволило с высокой надежностью оперировать больных с заболеваниями желудка, желчного пузыря, печени, со сложными патологическими процессами в панкреатодуоденальной зоне.
Под руководством А.В. Мартынова выполнены капитальные работы по вопросам клиники, патогенеза и хирургического лечения желчнокаменной болезни. Им была детально разработана техника холецистэктомии, лечения безкаменного холецистита, дискинезии желчных путей и методы диагностики (холецистография, дуоденография). Много внимания А.В. Мартынов уделял разработке проблем хирургического лечения базедовой болезни, облитерирующего эндартериита, он разработал новые способы хирургического лечения грыж, заболеваний поджелудочной железы, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, считая, что при этих заболеваниях следует проводить органосохраняющие оперативные вмешательства.
Широкое развитие получила хирургия органов дыхания — легких, трахеи, бронхов. П.А. Герцен еще в 1912 г. сообщил о лобэктомии, произведенной им по поводу гнойного заболевания легкого, с хорошим отдаленным результатом. В 1925 г. С.И. Спасокукоцкий опубликовал сообщение о лобэктомии по поводу бронхоэктазов. Одним из первых успешно провел операцию лобэктомии и пневмонэктомии ученик С.И. Спасокукоцкого Б.Э. Линберг, который сделал ряд сообщений на заседаниях Хирургического общества в Москве и на международном съезде хирургов в Брюсселе в 1938 г. Другой ученик С.И. Спасокукоцкого — А.Н. Бакулев в 1938 г. произвел лобэктомию с благоприятным исходом при хроническом абсцессе, в 1939 г. — при актиномикозе. До 1941 г. были проведены важные теоретические исследования в области строения и функции легких, накапливался опыт операций на легких.
С 1945 г. в ряде хирургических клиник началась интенсивная разработка этой области хирургии по трем направлениям: хирургия хронических неспецифических заболеваний легких; хирургия рака; хирургия туберкулеза легких. Успехи в области хирургии легких в значительной мере связаны с изучением патофизиологических особенностей открытого пневмоторакса, рефлексогенных зон органов грудной полости и введением в практику надежных способов обезболивания.
В развитие оперативных методов лечения больных туберкулезом легких большой вклад внес К.Д. Есипов. В 1926 г. он предложил модификацию операции торакопластики; был пионером применения торакоскопии и торакокаустики. Еще в 1917 г. Н.Г. Стойко впервые произвел торакопластику при туберкулезе легких. Он предложил переднезадний вариант экстраплевральной торакопластики, этапную селективную торакопластику, экстраплевральный пневмолиз с дренажем, кавернотомию с тампонадой масляно-бальзамическими тампонами вскрытой каверны и др. Л.К. Богуш произвел первую в СССР операцию удаления легкого по поводу туберкулеза (1947), разработал хирургическое лечение казеомы легкого (1954), хирургическое лечение больных с хроническими эмпиемами путем многоэтапной торакопластики и плеврэктомии (1056), операции на сосудах легких и главных бронхах и др. вопросы хирургического лечения больных с легочными заболеваниями. Н.В. Антелава, И.С. Колесников и др. внесли большой вклад в разработку новых путей оперативного лечения абсцессов, туберкулеза и рака легких, эмпиемы плевры и других вопросов грудной хирургии.
По мере обеспечения хирургических клиник наркозной и дыхательной аппаратурой, сшивающими аппаратами, впервые разработанными в нашей стране, расширялся круг учреждений, занимающихся легочной хирургией. Активно включились в легочную хирургию В.Н. Шамов, П.А. Куприянов и другие ведущие хирурги. Был также обобщен опыт Великой Отечественной войны по лечению огнестрельных ранений грудной клетки и их последствий. После 1950 г. начали быстро развиваться все разделы легочной хирургии, совершенствовались методики и техника радикальных операций, был накоплен большой опыт хирургического лечения заболеваний легких, возник раздел реконструктивных операций на бронхах и трахее (Л.К. Богуш, Б.В. Петровский, В.И. Стручков, Ф.Г. Углов, М.И. Перельман и др.).
Первые попытки хирургического вмешательства на сердце (П. А. Герцен, Ю.Ю. Джанелидзе и др.) были связаны с ранениями этого органа. В 30-е гг. обстоятельной разработкой открытого доступа к клапанам сердца занимался Н.Н. Теребинский; в его опытах искусственное кровообращение поддерживалось при помощи аппарата С.С. Брюхоненко. Однако условия для переноса результатов этих опытов на человека создались значительно позже. Особую роль в развитии сердечно-сосудистой хирургии в СССР сыграли А.Н. Бакулев, П.А. Куприянов, Е.Н. Мешалкин, Б.В. Петровский, А.А. Вишневский, В.И. Бураковский, Н.А. Амосов. В 1948 г. А.Н. Бакулев впервые в стране выполнил операцию перевязки открытого артериального протока; в 1951 г. он наложил анастомоз между верхней полой веной и легочной артерией и сделал операцию по поводу аневризмы грудной аорты, а в 1952 г. провел закрытую митральную комиссуротомию. По инициативе А.Н. Бакулева были созданы институт сердечно-сосудистой хирургии АМН СССР и проблемная комиссия союзного значения «Хирургическое лечение заболеваний сердца и сосудов». Значительным шагом в развитии хирургии явились операции под гипотермией на выключенном из кровообращения («сухом» сердце) с применением аппаратов искусственного кровообращения. П.А. Куприянов первым в СССР в 1954 г. провел такую операцию при врожденном пороке сердца (под контролем зрения). Е.Н. Мешалкин выполнил операцию кавопульмонального анастомоза диафрагмальный лоскут на ножке как пластический материал при лечении аневризмы сердца. В том же году В.И. Бураковский и А.А. Вишневский провели операции на «сухом сердце» под гипотермией. С 1960 г. быстро развивается протезирование клапанов сердца; Н.М. Амосов впервые успешно провел протезирование митрального клапана, с 1965 г. им начато применение искусственных клапанов сердца.
Благодаря совершенствованию методов диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, успехам клинической физиологии, анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии были созданы условия для проведения сложных операций на сердце и сосудах. В частности, освоены методы одновременного замещения двух и трех клапанов сердца, предложены новые методы хирургического лечения сложных и комбинированных врожденных пороков сердца, метод сочетанного применения искусственного кровообращения и гипербарической оксигенации, повышающий безопасность хирургического вмешательства при сложных пороках сердца; разработана система мероприятий по предупреждению острой сердечной недостаточности при хирургических вмешательствах на сердце и в послеоперационном периоде; выработана схема поэтапной медицинской реабилитации больных, оперированных по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.
Хирургическое лечение заболеваний сердца развивается по четырем основным направлениям: лечение пороков, аневризм, хронической и острой ишемической болезни сердца. Значительное распространение получила в СССР имплантация электрических кардиостимуляторов отечественной конструкции, в т.ч. с изотопными источниками питания, при полной поперечной блокаде сердца. С 1956 г. проводятся операции резекции постинфарктной аневризмы сердца. Накопленный в ангиохирургии опыт позволяет выполнять многие реконструктивные операции на коронарных артериях при хронической ишемии миокарда и при комплексном лечении тяжелых форм острой ишемии миокарда.
Начиная с 1967 г. в СССР проводятся интенсивные исследования в области «искусственного сердца», по созданию различных моделей имплантируемых спаренных насосов, приборов и автоматических систем управления ими (В.И. Шумаков и др.). Работы по созданию «искусственного сердца» проводятся в плане межгосударственного научного сотрудничества советских ученых (Институт клинической и экспериментальной хирургии. Институт трансплантологии и искусственных органов) с учеными США.
Во второй половине 20 в. сосудистая хирургия заняла важное место, что определяется резким увеличением числа больных с атеросклеротическими поражениями аорты и различных артерий. В связи с этим на базе института клинической и экспериментальной хирургии образован Всесоюзный центр экстренной сосудистой хирургии, созданы центры по оказанию экстренной хирургической помощи в областных и крупных городских больницах.
Примером успеха сосудистой хирургии являются операции при вазоренальной гипертензии, предложены сложные реконструктивные операции на аорте, почечных и позвоночных артериях, сосудах шеи, лица, конечностей, выполняются экстренные операции при разрыве аневризмы брюшного отдела аорты, считавшиеся ранее почти бесперспективными; достигнута также высокая эффективность операций на венозных стволах (А.В. Покровский, В.С. Савельев и др.). Качественно новый этап развития хирургии сосудов открывает микрохирургия, позволяющая восстановить проходимость артерий, вен кисти и пальцев, лимфатических сосудов, расширяющая возможности аутотрансплантации пальцев, кисти и других органов.
Трансплантология, родившаяся как ветвь хирургии, вышла далеко за пределы этой специальности, изучая теоретические и клинические аспекты пересадок жизненно важных органов. В конце 20-х — начале 30-х гг. Ю.Ю. Вороной с успехом предпринял эксперименты по пересадке почки. Оригинальные операции гомопластической пересадки сердца и легких у собак осуществил в 1947 г. В.П. Демихов. В 1954 г. он совместно с В.М. Горяиновым произвел пересадку головы собаки. Первая в СССР успешная операция пересадки почки человеку была произведена в 1965 г. Б.В. Петровским. Это фактически открыло в советской клинической М. «эру трансплантации». Подобные операции начали производить Г.М. Соловьев, Н.А. Лопаткин, В.И. Шумаков и др. В 1969 г. был организован институт трансплантации органов и тканей АМН СССР (ныне — институт трансплантологии и искусственных органов МЗ СССР). В институте осуществляется пересадка печени, сердца, аппарата «искусственное сердце» и др. В связи с решением задач трансплантологии проводятся исследования по проблемам тканевой несовместимости и толерантности.
В тесной связи с достижениями хирургии развивался в СССР ряд специальных клинических научных дисциплин, в т.ч. нейрохирургия. Еще в 1912 г. В.М. Бехтерев и Л.М. Пуссеп организовали в Петербурге в составе Психоневрологического института первую в мире нейрохирургическую клинику. Здесь началась разработка методов хирургического лечения травм нервной системы. Однако оформление нейрохирургии в самостоятельную дисциплину произошло после Великой Октябрьской социалистической революции. В 1921 г. А.Л. Поленов в Петроградском институте восстановительной хирургии организовал специализированное отделение хирургической невропатологии. Здесь он впервые в СССР произвел операцию на проводящих путях головного и спинного мозга при болевом синдроме и гиперкинезе, предложил (1927) операцию подкорковой пирамидэктомии для лечения гематетоза, джексоновской и кожевниковской эпилепсии и др. Важным этапом становления советской нейрохирургии явилось создание в Ленинграде в 1926 г. первого в мире института хирургической невропатологии (во главе с А.Г. Молотковым, а с 1929 г. — С.П. Федоровым), где начались комплексное изучение многих вопросов теории и практики нейрохирургии и интенсивная подготовка кадров нейрохирургов. В Москве создателем оригинальной хирургической школы с резко очерченным экспериментальным направлением был Н.Н. Бурденко. В 1929 г. он совместно с В.В. Крамером организовал нейрохирургическую клинику при Московском рентгеновском институте, на базе которой в 1934 г. был создан Московский нейрохирургический институт (ныне институт нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко АМН СССР).
Практически во всех республиканских, краевых, областных центрах, во многих крупных промышленных городах имеются нейрохирургические и нейротравматологические отделения. Головным нейрохирургическим учреждением страны, координирующим научные исследования, методическую и организационную работу, является институт нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко АМН СССР. Созданы межобластные нейрохирургические центры в Горьком, Иркутске, Казани, Ростове-на-Дону, Саратове, Свердловске и других городах.
Советскими нейрохирургами разработаны методы хирургического лечения заболеваний нервной системы и нарушений мозгового кровообращения, методы хирургического лечения опухолей мозга, ранее считавшихся неоперабельными (например, опухолей гипофиза).
Отечественные ученые внесли большой вклад в развитие травматологии, ортопедии и протезирования. Г.И. Турнер и Р.Р. Вреден создали в Петербурге первую в России ортопедическую клинику при ВМА и Ортопедический институт, где были сформированы оригинальные школы ортопедов и травматологов. М.И. Ситенко разрабатывал технику ортопедической травматологии в Харьковском медико-механическом институте и явился инициатором создания новых форм лечебных учреждений (детский ортопедический профилакторий, трудовой профилакторий). Н.Н. Приоров, возглавлявший Лечебно-протезный институт в Москве (ныне Центральный институт травматологии и ортопедии), внес значительный вклад в разработку теоретических и практических вопросов протезирования и травматологии. В.В. Гориневская разрабатывала функциональные методы лечения при травмах опорно-двигательного аппарата.
Г.А. Альбрехт еще в 1916 г. выступил с программой реорганизации на научной основе протезирования в России, которая была реализована в послереволюционные годы в деятельности учреждений социального обеспечения и первого в нашей стране Ленинградского института протезирования (1919). Ленинградской школой протезистов заложены основы хирургической реконструкции культей, разработаны первые в стране активные протезы рук. Коллективными усилиями Г.И. Турнера, Р.Р. Вредена, Т.П. Краснобаева были заложены основы детской ортопедии.
Общегосударственное социально-экономическое значение проблемы травматизма и лечения повреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата обусловило разработку системы мер предупреждения травматизма и создание мощной научной базы для исследований в области травматологии и ортопедии. Координирующим центром является Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова.
Характерной чертой современной травматологии является теоретическая направленность научных исследований, использование смежных областей науки в прикладных аспектах. Наиболее успешно проводятся исследования в направлении изучения травматизма и научных основ организации травматологической помощи, клиники и лечения повреждений опорно-двигательного аппарата, патофизиологии, диагностики и лечения ортопедических заболеваний у взрослых, костной патологии у детей и подростков. К существенным достижениям следует отнести работы по компрессионно-дистракционному остеосинтезу в лечении переломов, ложных суставов и деформации костей, разработку метода ультразвуковой обработки костей, методов раннего выявления и лечения врожденного вывиха бедра и других врожденных заболеваний и деформаций, комплексного лечения сколиоза в условиях специализированных школ-интернатов (М.В. Волков, К.М. Сиваш, О,Н. Гудушаури, В.К. Калнберз, Г.А. Илизаров и др.). Проведены глубокие теоретические исследования репаративных процессов в костной ткани и возможностей их стимуляции. Создан ряд компрессионно-дистракционных и шарнирных аппаратов различного назначения, позволяющих сочетать стабильное соединение костных фрагментов с ранним восстановлением функции пораженной конечности. Получило развитие принципиально новое направление в лечении патологии суставов — применение металлических, полимерных и металлополимерных эндопротезов различного назначения.
Выдающаяся роль в развитии онкологии в СССР принадлежит Н.Н. Петрову, который еще в 1910 г. опубликовал первую монографию на русском языке о патологии и клинике опухолей, создал (1926) институт онкологии в Ленинграде, носящий его имя, и школу советских онкологов. В 1918 г. был открыт Государственный рентгенологический, радиологический и раковый институт в Петрограде, в 1920 г. — институт такого же профиля в Харькове. В 1920 г. возобновил свою работу, прерванную в период войны и революции, организованный еще в 1903 г. Московский институт для лечения опухолей, который возглавил создатель московской школы онкологов П.А. Герцен (ныне этот институт носит его имя). В 1928 г. в Харькове начал выходить журнал «Вопросы онкологии». При активном участии Н.Н. Петрова создавалась государственная система организации противораковой борьбы. В 1934 г. на территории РСФСР были организованы первичные онкологические учреждения (онкологические пункты), связанные в методическом отношении с онкологическими институтами и клиниками и проводившие организационную, статистическую и консультационную работу на местах.
В исследованиях Н.Н. Петрова и созданной им школы онкологов широко использовался экспериментальный метод. В 20-х гг. ими была выявлена роль механических факторов в канцерогенезе и доказана возможность получения злокачественных метастазирующих опухолей путем зародышевых прививок. С 1939 г. Н.Н. Петров и его сотрудники осуществили первые в Европе опыты по изучению канцерогенного действия солнечных лучей. В опытах на обезьянах была прослежена динамика рентгенологически уловимых изменений, характеризующих возникновение и разрастание злокачественных новообразований в костях под влиянием введения в костный мозг радиоактивных веществ. А.М. Кричевский и З.И. Синельников создали в 1926 г. штаммовую саркому у крыс путем прививки злокачественной меланобластомы человека.
В СССР 20 научно-исследовательских институтов онкологического профиля, в т.ч. созданный по инициативе Н.Н. Блохина Онкологический научный центр АМН СССР — крупнейшее научное и лечебное учреждение нашей страны, в которых наряду с медиками работают физики, химики, биологи, математики и другие специалисты. Основными направлениями научного поиска являются раскрытие причин и механизмов возникновения опухолей, изыскание методов их диагностики, лечения и профилактики. Л.А. Зильбер сформулировал вирусогенетическую теорию возникновения рака. Его сотрудникам принадлежат известные иммунологические исследования, в которых, в частности, были открыты специфические опухолевые антигены. Получены интересные результаты в опытах на обезьянах. Так, введение обезьянам препаратов крови людей, больных лейкозом, привело к возникновению у них лейкозоподобного заболевания. Выделенный при этом онкорнавирус, его характеристики, возможность горизонтальной и вертикальной передачи заболевания свидетельствуют о вирусной природе лейкозов человека.
Широкую известность получили работы Л.М. Шабада и его сотрудников по изучению канцерогенных веществ в организме человека и окружающей его среде. Открыт ряд эндогенных канцерогенных веществ; показано, что канцерогенные вещества могут разрушаться некоторыми штаммами почвенных бактерий и что они способны проходить через плаценту матери, увеличивая процент возникновения опухолей у потомства. Установлена принципиальная возможность «биохимической» профилактики процесса канцерогенеза посредством использования ряда химических веществ, блокирующих связь канцерогена с нуклеиновыми кислотами. Большое значение имеют работы по выделению в чистом виде белка, связывающего канцерогенные вещества, нахождение антител к этому белку и знание закономерностей его распределения в опухолевых и нормальных клетках.
С именем Л.Ф. Ларионова связано появление первых советских противоопухолевых препаратов, таких, как новэмбихин, сарколизин, допан. В 60—70-е гг. это направление бурно развивалось; было синтезировано или выделено из природных источников около 4000 соединений с предполагаемым противоопухолевым действием, в практику здравоохранения передано свыше 20 противоопухолевых лекарств, среди которых оливомицин, рубомицин, карминомицин, фторафур, дийодбензотэф, нитрозометилмочевина и др.
Интенсивное развитие научных исследований в онкологии позволило усовершенствовать методы раннего выявления опухолей и их лечения, организовать противораковую службу. Все это вместе взятое привело к тому, что в нашей стране отмечается стабилизация показателей смертности от рака среди мужчин, а среди женщин имеется определенная тенденция к снижению этих показателей.
Значительный вклад в разработку актуальных проблем акушерства и гинекологии внесли советские ученые — А.П. Губарев, В.С. Груздев, В.В. Строганов. М.С. Малиновский, М.А. Петров-Маслаков, Л.С. Персианинов, А.П. Николаев, Н.С. Бакшеев и др. Разработанные и совершенствовавшиеся В.В. Строгановым методы выжидательного, консервативного лечения эклампсии и принципы лечебно-огранительного режима, направленные на понижение возбудимости ц.н.с. (метод, или система, Строганова), завоевали прочные позиции в СССР, а также в ряде других стран. Благодаря этому методу было достигнуто значительное снижение материнской и детской смертности при эклампсии. В 1928 г., т.е. в период, когда хирургическое направление в его крайних проявлениях вступило в противоречие с идеями профилактики и некоторые радикальные вмешательства были заменены щадящими, Н.А. Цовьянов предложил акушерский прием ручного пособия при чистом ягодичном предлежании плода (Цовьянова ручное пособие), получивший широкое распространение (с незначительными изменениями этот способ был описан в 1936 г. немецким акушером Э. Брахтом). М.А. Петров-Маслаков предложил теорию нейрогенных дистрофий женских гениталий (1952), иммунологическую концепцию патогенеза поздних токсикозов беременных (1971) и методы их терапии. Совместно с М.А. Репиной он разработал систему мероприятий по профилактике и лечению афибриногенемии при беременности и родах (1968). Одним из первых в СССР М.А. Петров-Маслаков применил диатермокоагуляцию для лечения предраковых состояний шейки матки. А.П. Николаев обосновал концепцию, объясняющую причины возникновения и механизмы течения нормальных и патологических родов с позиций нейрогуморальной регуляции функций организма.
А.П. Николаев предложил (1952) эффективный, простой профилактический способ борьбы с гипоксией плода (триада Николаева), который успешно применяется в акушерстве. Л.С. Персианиновым были получены новые данные по физиологии и патологии сократительной деятельности матки во время родов, выявлены изменения клеточных и субклеточных структур в процессе сокращения миометрия, разработаны новые методы регуляции сократительной деятельности матки. Он внедрил в практику акушерства и гинекологии электроаналгезию, оригинальные методы лечения асфиксии новорожденных. Л.С. Персианинову, В.А. Неговскому, Н.С. Бакшееву, В.А. Покровскому и др. принадлежат исследования патофизиологии и терапии терминальных состояний, вызванных кровопотерей при родах, которые представляют большую ценность для акушерства. Советскими акушерами М.С. Малиновским, К.Н. Жмакиным, А.П. Николаевым, М.А. Петровым-Маслаковым и др. разработаны проблемы рационального ведения родов, их обезболивания (в т.ч. медикаментозного, психотерапевтического и физиопрофилактического). В целях обезболивания родов в акушерстве используется созданный в СССР аппарат «Электронаркон-1». При этом электроаналгезия оказывает нормализующее влияние при нарушениях нервной регуляции сердечной деятельности и дыхания, обезболивающее действие в послеоперационном периоде. При дискоординации сокращений матки электроаналгезия ускоряет раскрытие шейки матки и регулирует сократительную деятельность, улучшая состояние матери и плода. В гинекологии широко используются современные высокоинформативные методы диагностики — эндоскопия (гистероскопия, лапароскопия, кольпоскопия), радиоизотопное и ультразвуковое исследование. Применение этих методов позволяет, в частности, диагностировать опухоли на ранних этапах.
Физиологическое и профилактическое направления М. в СССР получили особенно яркое выражение в педиатрии, становление которой связано с деятельностью А.А. Киселя — автора классических работ по проблемам клиники, лечения и профилактики ревматизма и туберкулеза у детей, уделявшего особое внимание вопросам гигиены и питания здорового ребенка; Г.Н. Сперанского и М.С. Маслова, возглавивших изучение патологии раннего детского возраста и путей ее профилактики; В.И. Молчанова, А.Ф. Тура и ряда др. советских педиатров. Исключительное значение имели труды М.А. Скворцова, заложившего основы патоморфологии детского возраста, деятельность Т.П. Краснобаева и С.Д. Терновского — основоположников детской хирургии. в СССР. Уделяется большое внимание изучению анатомо-физиологических особенностей детского организма, разработке методов лечения и профилактики детских инфекций, заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, ревматизма, пневмоний, рахита, особенностям клинического течения и лечения наследственной патологии, болезней раннего детского возраста, методам хирургического лечения детских болезней. В области гематологии детского возраста достигнуты определенные успехи в изучении лейкозов: дана медико-географическая характеристика районов повышенного распространения лейкозов, разработаны схема химиотерапии острого лейкоза, принципом которой является учет селективного действия различных препаратов на отдельные фазы митотического цикла лейкемических клеток, метод иммунотерапии острого лейкоза, позволяющий путем активной иммунизации аллогенными лейкозными клетками в дополнение к химиотерапии достигнуть возможности удлинения ремиссии и снижения доз цитостатиков. Успешно изучаются проблемы детской нефрологии и урологии, детской хирургии.
Становление невропатологии и психиатрии в нашей стране шло под влиянием материалистической физиологии И.М. Сеченова, Н.В. Введенского, А.А. Ухтомского, И, П. Павлова. Другой характерной чертой было исключительное внимание к морфологическому субстрату, лежащему в основе нервных и психических болезней. Ярким представителем психоневрологии как области М., сочетающей клинику с морфологией и физиологией, был В.М. Бехтерев. В 1918 г. он основал институт по изучению мозга и психической деятельности, в который вошли: Патолого-рефлексологический институт, Отофонетический институт, институт социального воспитания, Воспитательно-клинический институт, институт глухонемых, Педологический институт и др. В основу деятельности института были положены принципы рефлексологии (в т.ч. коллективной). Здесь В.М. Бехтеревым и сотрудниками разработаны уже в советский период общие основы рефлексологии человека (1918), коллективная рефлексология (1921), основы учения о мозге и его деятельности (1928), которые оказали большое влияние на развитие невропатологии и психиатрии. Выдающуюся роль в истории отечественной и мировой неврологии в советский период сыграли также Г.И. Россолимо, Л.С. Минор, М.Б. Кроль, Е.К. Сепп, А.М. Гринштейн, Н.В. Коновалов и др. Г.И. Россолимо предложил хирурго-токсический метод для экспериментального изучения функций мозга, разработал новые методы экспериментально-психологического исследования детей. Он внес большой вклад в изучение сирингомиелии, полиомиелита, рассеянного склероза, хореи, опухолей головного мозга; основываясь на глубоких знаниях в области топической диагностики, первый предложил их хирургическое лечение. М.Б. Кроль указал на тесную взаимосвязь функций гнозиса, праксиса и речи, дал новые представления о синергических и тонических рефлексах, о реперкуссии и хронаксии. Е.К. Сепп выдвинул теорию «шлюзовой» функции симпатической нервной системы, подчеркивающую ее адаптационную роль (1928). Он детально исследовал строение и функции четверохолмия и описал особый четверохолмных рефлекс (старт-рефлекс), указав на клиническое значение его изменений (1937). А.М. Гринштейн показал, что поражение подбугорной области (гипоталамуса) может вызвать ощущение голода, как стойкое, так и в виде эпилептической ауры (1925, 1931). Исследуя взаимосвязь жирового обмена и нервной системы, он выявил (1925), что общее ожирение может быть признаком поражения продолговатого мозга. А.М. Гринштейн теоретически обосновал (1939) возможность лечения каузалгий, рефлекторных контрактур, сосудистых синдромов путем оперативного пересечения преганглионарных волокон и доказал его эффективность в тех случаях, когда консервативная терапия не эффективна. Н.В. Коновалов дал детальное описание (1960) клиники различных форм гепатоцеребральной дистрофии и особенностей их патоморфологии и патогенеза, предложил для этого заболевания название «гепатоцеребральная дистрофия» (ее называют также болезнью Вестфаля — Вильсона — Коновалова).
Большой вклад в развитие невропатологии внес С.Н. Давиденков. Еще в 1911 г. он доказал инфекционно-токсическую природу атаксии, в последующем выявил семейный характер этого заболевания и сформулировал концепцию о так называемой семейной ранимости координации (1934). Он впервые описал (1919) синдром горметонии — короткие приступы сильнейшего тонического спазма мышц в парализованных конечностях при обширных церебральных поражениях; мезенцефальный тик — вариант гиперкинеза (1922); различные типы течения эпидемического энцефалита (1923); маятниковую модификацию коленного рефлекса (1921); дистоническую миоклонию (1936); врожденную агликофагию (1939); выделил новую нозологическую форму прогрессирующих мышечных дистрофий — лопаточно-перонеальную амиотрофию (1928) и др. С.Н. Давиденков один из первых указал на генетическую гетерогенность и полиморфизм наследственных заболеваний и сформулировал положение об усилительном влиянии нейротропных генов, обладающих сходным тропизмом (1934). Его труды в данной области оказали существенное влияние на формирование и развитие клинической нейрогенетики не только в СССР, но и за рубежом и нашли широкое применение в практике здравоохранения. С.Н. Давиденковым впервые в СССР были организованы медико-генетические консультации при больнице им. В.И. Ленина (1934 г., Ленинград) и институте нервно-психической профилактики (1935 г., Москва). Все это дает основание считать С.Н. Давиденкова основоположником клинической нейрогенетики в СССР.
Большой вклад в изучение вопросов сосудистой патологии внесли Н.К. Боголепов, Е.В. Шмидт, Д.К. Богородинский и др. Н.К. Боголепов развил учение о недостаточности мозгового кровообращения, описал вентрикулярные геморрагии, неврологические синдромы при патологии верхней и нижней полой вены, аорты, заболеваний сердца, апоплектиформный синдром при инфаркте миокарда, аортально-каротидный синдром, гиперпатические и маятникообразные рефлексы и др. Н.К. Боголепов разрабатывал новые направления в невропатологии: кардионеврологию, реноневрологию, нейрореанимацию, нейрогериатрию, нейроаллергологию. Он был в числе первых организаторов службы реанимации и скорой помощи при острых нарушениях мозгового кровообращения. Е.В. Шмидт впервые описал (1942) синдром поражения моторной и премоторной зон коры при огнестрельных ранениях черепа («расщепление пирамидного синдрома»). Он провел исследования, показавшие роль поражений сонных и позвоночных артерий в патогенезе мозгового кровообращения: выполнил цикл работ по эпидемиологии сосудистых заболеваний нервной системы, послуживших научной основой профилактики инсультов. Д.К. Богородинский — инициатор изучения в нашей стране расстройств спинального кровообращения. Важное значение имеют его работы, посвященные вопросам сосудистой патологии нервной системы: описание синдромов закупорки внутричерепных артерий, классификация топографии инфарктов в полушариях мозга в зависимости от степени и формы развития коллатерального кровообращения. Исследованиями советских невропатологов установлено, что последствия закупорки мозговых сосудов определяются прежде всего возможностями коллатерального кровообращения; показана связь патологии мозговой гемодинамики с изменениями метаболизма мозга, что расширило диагностические возможности; особое значение имели исследования роли магистральных артерий головы в нарушении мозгового кровообращения, обосновавшие метод оперативного восстановления полноценного кровотока в атеросклеротически суженных сосудах, такие операции стали достоянием многих хирургических клиник. Усовершенствованы методы комплексного лечения больных с инсультом, включая оперативное лечение.
Большое научное и практическое значение имеют исследования Б.Н. Маньковского, М.С. Маргулиса, В.В. Михеева, А.Г. Панова, X.-Б.Г. Ходоса, Л.А. Зильбера, М.П. Чумакова и др. в области нейроинфекций, таких как клещевой энцефалит, гриппозные поражения нервной системы, полисерозные энцефалиты, лептоменингиты.
Советскими авторами (Л.О. Даркшевич, М.С. Маргулис, Н.В. Коновалов) много сделано для обоснования инфекционно-вирусной концепции этиологии бокового амиотрофического склероза. Электронно-микроскопические исследования, проведенные Н.В. Коноваловым, позволили выявить в продолговатом мозге больного боковым амиотрофическим склерозом частицы, сходные с вирусными тельцами. Впервые в СССР (1956) Л.А. Зильбером и Н.В. Коноваловым были начаты экспериментальные работы по перевивке бокового амиотрофического склероза от человека обезьянам. Экспериментами доказана роль вируса в этиологии бокового амиотрофического склероза. Эти исследования имеют принципиальное значение, т.к. это существенный шаг в раскрытии природы других хронических инфекций нервной системы. Благодаря этим исследованиям сформировалось учение о «медленных» вирусных инфекциях, которое интенсивно разрабатывается.
Развитие психиатрии связано с деятельностью В.М. Бехтерева, В.П. Осипова, Р.Я. Голант, В.Н. Мясищева, А.С. Чистовича и др. в Ленинграде; П.Б. Ганнушкина, Т.И. Юдина, В.А. Гиляровского, Е.К. Краснушкина, Т А. Гейера, М.О. Гуревича, Ю.В. Каннабиха, Л.М. Розенштейна, М.Я. Серейского, О.В. Кербикова, А.В. Снежневского в Москве; А, И. Ющенко, В.П. Протопопова, Е.А. Попова в Харькове; М.М. Асатиани в Тбилиси; А.А. Меграбяна в Ереване и др. В.П. Осиповым разработаны основы военной психиатрии в СССР. П.Б. Ганнушкин создал концепцию так называемой малой психиатрии и поставил вопрос о социальной психиатрии как новой дисциплине. Он был инициатором развития внебольничной психиатрической помощи и организации системы психиатрических диспансеров как новой формы государственной организации лечебно-профилактического обслуживания, социального устройства и реабилитации психически больных. Т.И. Юдин — пионер отечественной и мировой клинической генетики психических болезней. Он предопределил один из главных элементов исследования генетики заболеваний с наследственным предрасположением — поиск патогенетических маркеров этого предрасположения. Под руководством Т.А. Гейера разрабатывались основы социального и трудового прогноза, экспертизы трудоспособности, трудоустройства и социальной реабилитации психически больных. М.О. Гуревич, Н.И. Озерецкий и др. заложили основы детской психоневрологии. О.В. Кербиков, А.В. Снежиевский, В.П. Протопопов, Е.А. Попов и др. разрабатывали проблемы клиники, лечения и патогенеза эндокринных психозов и, в первую очередь, шизофрении. А.А. Меграбян разработал оригинальную клиническую концепцию феномена деперсонализации при самых различных психических болезнях.
На основе применения классических гистологических методов исследования и внедрения новых методических приемов (трансмиссионной электронной микроскопии, электронной цитохимии, метода культуры нервной ткани, морфометрии и др.) были развернуты исследования по изучению ультраструктурных и цитохимических особенностей мозга при отдельных формах психозов. Успехи психофармакологии определили основное направление стационарной и амбулаторной лечебной помощи психически больным. Внедрена форма организации наркологической помощи, при которой лица, страдающие хроническим алкоголизмом, в процессе лечения привлекаются к систематическому труду.
Советские дерматовенерологи внесли значительный вклад в разработку организационных основ борьбы и методов диагностики и лечения сифилиса, в развитие функционального направления в дерматологии. Организованный в 1921 г. Государственный венерологический институт сыграл важную роль как научно-методический центр борьбы с венерическими болезнями и в подготовке квалифицированных кадров дерматовенерологов. Успехи в изучении вопросов физиологии кожи. патогенеза, диагностики, клиники, лечения и профилактики сифилиса и дерматозов связаны с именами П.В. Никольского, Т.П. Павлова, П.С. Григорьева, О.Н. Подвысоцкой, П.В. Кожевникова, С.Т. Павлова, Л.Н. Машкиллейсона, Г.И. Мещерского, Н.С. Смелова, Н.А. Торсуева, О.К. Шапошникова и др. Систематические исследования по проблеме грибковых заболеваний кожи способствовали формированию оригинальной советской школы микологов (А.М. Ариевич и др.).
Развитие урологии в СССР проходило в тесной связи со становлением смежного раздела клиники внутренних болезней — нефрологии. Особенно значительную роль, наряду с С.П. Федоровым, сыграли Б.Н. Кольцов, предложивший методы простатэктомии и операции на уретре; П.Д. Соловьев, А.В. Вишневский, разработавшие оригинальные пластические операции при стриктурах уретры; А.В. Мартынов, С.Р. Миротворцев, предложившие методы пересадки мочеточников в кишечник; Р.М. Фронштейн, исследования которого способствовали успешной разработке методов лечения и профилактики гонореи; В.М. Мыш, А.П. Фрумкин, А.Я. Пытель, Н.А. Лопаткин и др.
Развитие оториноларингологии связано с деятельностью коллективов ученых, которые возглавляли В.И. Воячек, Л.И. Свержевский, М.Ф. Цытович, Л.Т. Левин, В.Ф. Ундриц, А.Г. Лихачев, В.К. Трутнев, Б.С. Преображенский и др. К наиболее существенным достижениям советских оториноларингологов во второй половине 20 в. относятся: разработка эффективных слухоулучшающих операций (фенестрация лабиринта, операции на стремечке, тимпанопластика) К.Л. Хиловым, А.И. Коломийченко, Н.А. Преображенским, создание достоверных аудиологических тестов дифференциальной диагностики нарушений слуха; исследования развития токсического кохлеарного неврита и хронического гнойного отита у взрослых и детей, проницаемости гематолабиринтного барьера и т.д.
Успехи, достигнутые в области офтальмологии, связаны с созданием крупных офтальмологических научно-исследовательских учреждений (институты глазных болезней в Москве, Ленинграде, Одессе, Харькове, Всесоюзный научно-исследовательский институт глазных болезней МЗ СССР), с деятельностью М.И. Авербаха, В.П. Одинцова, В.П. Филатова и их многочисленных учеников. Под руководством А.С. Савваитова коллективами трахоматозных институтов в Казани, Уфе и Чебоксарах были разработаны эффективные методы лечения и ранней диагностики трахомы, способствовавшие ликвидации ее как массового заболевания. В.П. Филатов разработал методы кератопластики и тканевой терапии, широкое применение которых спасло от слепоты многие тысячи больных. А.А. Колен, Н.А. Пучковская, А.Я. Самойлов, Т.И. Ерошевский предложили оригинальные методы хирургического лечения травм глазного яблока, внутриглазничных, орбитальных и кожных пластических операций. Т.И. Ерошевский впервые в нашей стране применил микрооперации на углу передней камеры глаза — гониотомию и гониопунктуру, разработал оригинальную операцию — проникающую гониодиатермию. Под его руководством внедрен в практику новый метод изучения гидродинамики глаза — тонография, создан первый в СССР электронный тонограф. В.Н. Архангельский предложил оригинальные методы, широко применяемые в офтальмологической практике: операции диатермокоагуляции новообразований радужной оболочки (1956) и диатермокоагуляции цилиарного тела при глаукоме (1957) и др.
Переход на операции под микроскопом создал качественно новую глазную хирургию. Микрохирургические методы применяются при глаукоме, отслойке сетчатки, близорукости и т.д. Многие операции (при катаракте, пересадке роговицы и др.) пережили «второе рождение». В глазной микрохирургии используются глазные иглы размером примерно с человеческую ресницу и шовный материал диаметром в сотые доли миллиметра. Одному из создателей микрохирургического направления в офтальмологии — М.М. Краснову принадлежат разработки новых принципов хирургии глаза с использованием различного типа лазеров, патогенетического подхода к хирургическому лечению глаукомы, первые в СССР исследования по хирургическому лечению высокой степени близорукости. Им впервые в СССР произведена имплантация искусственного хрусталика. Новой областью глазной хирургии являются операции на стекловидном теле при так называемых безнадежных бельмах роговицы. Т.о., важная проблема офтальмологии — слепота в результате поражения оптического аппарата глаза становится по существу научно решенной. С.Н. Федоров предложил оригинальные модели искусственного хрусталика глаза; разработал способ хирургической коррекции близорукости и астигматизма (радиальная кератотомия), двухэтапный способ кератопротезирования, оригинальную модель кератопротеза, микрохирургический вариант сквозной субтотальной кератопластики с применением неконсервированной роговицы и др. Возглавляемый С.Н. Федоровым Московский научно-технический комплекс микрохирургии глаза МЗ РСФСР стал международно признанным центром хирургии глаза.
Зубоврачевание дореволюционной России превратилось в СССР в научную дисциплину и многопрофильную специальность — стоматологию, включающую терапевтическую, хирургическую, ортопедическую, детскую стоматологию. Ее становлению способствовали труды П.Г. Дауге, положившего начало санации полости рта как методу оздоровления всего организма, А.И. Евдокимова и Д.А. Энтина, исследования которых по проблеме патогенеза пародонтоза легли в основу последующей разработки системы лечения этого заболевания, И.Г. Лукомского, впервые применившего фтор в качестве средства против кариеса зубов. Основоположники челюстно-лицевой хирургии в СССР А.Э. Рауэр, А.А. Лимберг, Н.М. Михельсон, Ф.М. Хитров разработали оригинальные методы пластических операций на лице.
Гигиена, микробиология, эпидемиология. После Октябрьской революции в нашей стране были разработаны специфические формы профилактики, включающие осуществление социальных и общественных мер по оздоровлению окружающей среды, условий труда и быта, контроль за выполнением санитарного законодательства, гигиенических нормативов, противоэпидемических мероприятий. Хотя установление причин болезней и способов их предупреждения — задача большинства медицинских дисциплин, она стоит в первую очередь перед гигиеной, микробиологией, эпидемиологией. В основе так называемых профилактических дисциплин и, прежде всего, гигиены, лежит представление о единстве организма и среды. Один из основоположников советской гигиены Г.В. Хлопин рассматривал гигиеническую науку как единую дисциплину (общую гигиену), изучающую влияние разнообразных факторов окружающей среды и производственной деятельности на здоровье человека и разрабатывающую практические мероприятия, направленные на оздоровление условий жизни и труда человека. Его труды посвящены разработке методов санитарно-химических исследований, проблем гигиены водоснабжения, гигиены питания, санитарной микробиологии и организации санитарного дела, гигиены труда, профзаболеваний и промышленной токсикологии, школьной гигиены и психогигиены и физиологии умственного труда, санитарно-химической защиты населения и войск. Начиная с 20-х гг. гигиена распалась на ряд самостоятельных дисциплин — социальную гигиену, гигиену труда, коммунальную гигиену, гигиену питания, гигиену детей и подростков, радиационную, военную, авиационную гигиену и др. Изучение состояния здоровья населения и отдельных его групп, влияния социально-экономических факторов на общественное здоровье и здравоохранение, разработка форм и методов управления здравоохранением, теоретических основ здравоохранения составили предмет социальной гигиены и организации здравоохранения, «Социальная гигиена, — писал Н.А. Семашко, — изучает... вопросы оздоровления с социальной точки зрения, она намечает не только индивидуальные, но и социальные мероприятия, направленные к сохранению и восстановлению здоровья населения». Это отличает социальную гигиену от медико-биологических и клинических дисциплин, изучающих организм здорового и больного индивидуума. Социальная гигиена тесно связана с общественными науками (политической экономией, социологией, демографией, общей теорией управления и др.) и сосредоточивает внимание преимущественно на социальных условиях, изучает соотношение социального и биологического в М. Организационная база социальной гигиены — система здравоохранения, опирающаяся на социально-экономическое преобразование общества и направленная на ликвидацию социальных источников патологии. Развитию социальной гигиены и внедрению профилактического направления в практическую врачебную деятельность и систему высшего медицинского образования способствовала деятельность кафедр социальной гигиены, созданных в 1-м (Н.А. Семашко, 1922) и 2-м (З.П. Соловьев, 1923) Московских университетах. В течение 20-х гг. кафедры социальной гигиены были созданы во всех высших медицинских учебных заведениях.
Основоположники советской социальной гигиены Н.А. Семашко, З.П. Соловьев, В.А. Обух, А.В. Мольков и др., основываясь на марксистском положении о ведущей роли социальных условий в возникновении и предупреждении заболеваний, разработали теоретические основы советского здравоохранения и наметили социальные мероприятия, направленные к сохранению и восстановлению здоровья населения. В качестве важнейшего средства синтеза профилактики и лечения они предложили диспансерный метод, получивший широкое распространение в больницах, поликлиниках, в деятельности участковых врачей и других работников лечебно-профилактических учреждений, а также специальных учреждений — диспансеров (противотуберкулезных, кожно-венерологических, психоневрологических, онкологических и др.).
Многие крупные гигиенисты (А.Н. Сысин, А.В. Мольков, З.Г. Френкель, П.А. Кувшинников, Г.А. Баткис и др.) способствовали научной разработке проблем социальной гигиены, особенно проблем медицинской демографии, санитарной статистики, организации здравоохранения, в частности диспансеризации, медицинского обслуживания городского и сельского населения. Ведущим научно-исследовательским и методическим центром в области социальной гигиены в период с 1923 г. по 1934 г. был Государственный институт социальной гигиены, возглавлявшийся А.В. Мольковым, а во 2-й половине 20 в. — Всесоюзный научно-исследовательский институт социальной гигиены и организации здравоохранения им. Н.А. Семашко МЗ СССР. Еще в 20-х и начале 30-х гг. были осуществлены многочисленные комплексные социально-гигиенические исследования здоровья рабочих, разработаны методы исследования, дано научное обоснование мероприятиям в области здравоохранения. В современной М. социальные подходы стали ведущими и пронизывают все ее области.
Под руководством П.И. Куркина, С.А. Новосельского и других санитарных статистиков были разработаны общие правила и формы медико-статистической регистрации и отчетности, созданы организационно-методические обоснования изучения заболеваемости населения и учета деятельности сети медицинских учреждений. Создана новая единая номенклатура болезней и причин смертности. Составленные С.А. Новосельским и В.В. Паевским таблицы смертности населения СССР показали влияние социально-экономических условий на удлинение продолжительности жизни в стране. Были предложены новые методы изучения летальности мигрирующих масс, детской смертности, рождаемости, статистического анализа, корреляции, изменчивости и связи отдельных демографических явлений между собой и с различными социальными факторами, разработан анамнестический метод в демографии (Г.А. Баткис). Значительное развитие получили разработка основ изучения здоровья населения, исследование потребностей и определение дифференцированных нормативов в различных видах лечебно-профилактической помощи.
Значительным вкладом в решение актуальных проблем общей и коммунальной гигиены явилась деятельность А.Н. Сысина, А, Н. Марзеева, Н.К. Игнатова, Д.Н. Калюжного. Их исследования послужили основой для законодательства об охране водоемов, воздуха и почвы от загрязнений, для санитарных правил и нормативов планировки городов и проектирования промышленных предприятий. Принципы и основы гигиенического нормирования вредных факторов окружающей среды успешно разрабатывали и внедряли А.Н. Сысин, А.А. Летавет, А.Н. Марзеев, В.А. Рязанов, А.А. Минх и др. Успешно начатые в 20-х гг. исследования, посвященные санитарной охране водоемов, были завершены постановлением правительства о санитарной охране водопроводов и источников водоснабжения (1937). С.Н. Черкинский, З.К. Могилевчик, Н.Н. Литвинов и др. разработали методики санитарной экспертизы спуска в водоемы сточных вод, предельно допустимые концентрации ядовитых веществ в воде. Большая заслуга в достигнутых успехах принадлежит институту общей и коммунальной гигиены имени А.Н. Сысина АМН СССР, Киевскому институту общей и коммунальной гигиены имени А.Н. Марзеева, Московскому институту гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана и др.
Начиная с 70-х гг. особое значение приобрели исследования по проблемам, связанным с вопросами санитарной охраны объектов окружающей среды. Изучается комплексное и комбинированное действие вредных веществ на организм, а также их канцерогенное, аллергогенное, гонадотропное и эмбриотоксическое действие. Результаты этих работ легли в основу проведения плановых государственных оздоровительных мероприятий.
Необходимость развития научных исследований в области гигиены труда и профессиональной патологии в связи с индустриализацией страны во время первых пятилеток обусловила организацию сети специализированных научно-исследовательских учреждений. Первым в 1923 г. в Москве был создан институт по изучению профессиональных заболеваний Мосгорздрава (ныне Научно-исследовательский институт гигиены труда и профессиональных заболеваний АМН СССР), институты гигиены труда и профзаболеваний проводили профилактическую работу по оздоровлению условий труда и быта на основе широких социально-гигиенических исследований и диспансеризации рабочих. Комплексное изучение условий труда и заболеваемости проводилось на предприятиях угольной, горнорудной, химической, металлургической, текстильной, кожевенной, машиностроительной и других отраслей промышленности. Большую роль в развитии гигиены и охраны труда в СССР сыграли исследования Д.П. Никольского, В.А. Левицкого, Н.А. Вигдорчика, С.И. Каплуна и др.
С.И. Каплун участвовал в создании проектов кодекса законов о труде, организовал (1926) первую кафедру гигиены труда при 1-м ММИ. Большая роль в развитии профессиональной патологии принадлежит организаторам первых клиник профессиональных заболеваний И.Г. Гельману в Москве и Н.А. Вигдорчику в Ленинграде. Основные положения гигиены труда, разработанные отечественными учеными, легли в основу комплексных клинико-гигиенических исследований и в значительной мере определили достижения клиники профессиональных болезней. Изучение влияния производственных факторов на здоровье человека (С.И. Каплун, А.А. Летавет и др.) позволило установить гигиенические нормы и предельно допустимые концентрации ядовитых веществ в различных средах, а также нормы уровней шума, вибрации и т.д. Интенсификация сельского хозяйства обусловила необходимость выделения гигиены села в самостоятельную проблему. Обоснованы гигиенические требования к условиям труда механизаторов и других сельскохозяйственных рабочих, к санитарному благоустройству сельских населенных мест. Исследования Г.В. Хлопина, Ф.Г. Кроткова, Н.Ф. Галанина способствовали развитию военной гигиены и гигиены использования лучистой энергии. Важной проблемой гигиены в СССР стало изучение акклиматизации человека к условиям холодного и жаркого климата, которая стала предметом исследований нескольких гигиенических институтов, работающих в контакте с Арктическим институтом Главсевморпути.
Важным мероприятием, обеспечившим развитие науки о питании в первые годы Советской власти, явилось принятие в 1918 г. декрета об организации Российского пищевого научно-технического института. В 1920 г. в составе ГИНЗ был организован институт физиологии питания во главе с ближайшим учеником И.М. Сеченова М.Н. Шатерниковым. Уже в начале 20-х гг. на основе предложенного М.Н. Шатерниковым метода определения энерготрат организма были проведены исследования, позволившие получить объективные данные для нормирования питания, а также разработать (М.Н. Шатерников и П.Н. Диатроптов) первые физиологические нормы питания населения в зависимости от уровня энерготрат. Полученные данные легли в основу планирования рационального питания населения страны в восстановительный период. В дальнейшем проблема обоснования пищевой и энергетической ценности питания в зависимости от изменившихся условий жизни и деятельности населения продолжала изучаться. В результате многолетних исследований, проведенных сотрудниками института питания в 30-х—40-х гг., в экспедициях и непосредственно на производствах были разработаны (1951) физиологические нормы питания для детей, подростков, а также для взрослого населения в зависимости от интенсивности труда. Результаты дальнейших научных исследований в области нормирования питания и разработки наиболее рациональных норм потребности в питательных веществах, витаминах и микроэлементах, проведенных в ряде научных учреждений страны, легли в основу действующих нормативных документов, например «Рекомендаций в области профилактического питания промышленных рабочих СССР», где рассмотрены вопросы питания шахтеров, рабочих химической промышленности, некоторых категорий тружеников сельского хозяйства, учащихся профессионально-технических училищ и др.
В 1930 г. был организован Центральный институт питания Наркомздрава РСФСР, который стал ведущим учреждением по изучению всего комплекса вопросов, связанных с наукой о питании, и центром, организующим и корректирующим эту область науки в нашей стране. В 30-х гг. был создан ряд зональных институтов питания в Одессе, Ленинграде, Харькове, Воронеже, Ростове-на-Дону, Иванове и Новосибирске.
В Центральном институте питания в Москве, в Одесском и Харьковском институтах питания были созданы специальные отделы витаминологии, ставшие крупными центрами по изучению химического строения, обмена и биологической роли витаминов, а также проблем витаминной недостаточности и витаминотерапии. В 1936 г. по инициативе Б.А. Лаврова и М.Н. Шатерникова была создана Государственная контрольная витаминная станция, на базе которой в 1954 г. был организован институт витаминологии МЗ СССР, Развитие советской витаминологии тесно связано с исследованиями Б.А. Лаврова, А.В. Палладина, Л.А. Черкеса и др. Исследования в области витаминологии охватывали разнообразные вопросы, касающиеся норм потребления витаминов в зависимости от возраста и особенностей труда, их взаимосвязи с другими факторами питания. Важное практическое значение имели экспедиции в различные районы страны. В частности, были выявлена причина высокой эндемической заболеваемости пеллагрой в низменных районах Грузии, предложены и осуществлены мероприятия по ее ликвидации. Впервые были разработаны нормы суточной потребности человека в витаминах, введена обязательная С-витаминизация пищи в детских лечебных и профилактических учреждениях; в больницах для взрослых и родильных домах предусмотрено осуществление широкой витаминизации продуктов массового потребления, разработаны и приняты нормы закладки витаминов в пищевые продукты.
Одним из крупнейших достижений советской науки о питании является разработка биохимических и физиологических обоснований, а также сформулированная А.А. Покровским теория сбалансированного питания. Согласно этой концепции обеспечение нормальной жизнедеятельности организма человека возможно при условии не только снабжения его адекватным количеством энергии питательных веществ, но и соблюдения достаточно строгих взаимоотношений между многими факторами питания, каждому из которых принадлежит специфическая роль в обмене веществ.
В становление и развитие советской гигиены детей и подростков большой вклад внесен ее основоположниками Н.А. Семашко, А.В. Мольковым, Д.Д. Бекарюковым, а также коллективом ученых института гигиены детей и подростков. Специалисты этого профиля исследуют действующие на растущий организм различные факторы окружающей среды с целью определения оптимальных условий обучения и воспитания, обеспечивающих охрану здоровья и нормальное развитие детей.
В первые годы Советской власти были заложены основы советской эпидемиологии и начато производство вакцин и сывороток. В 1918 г. по инициативе Л.А. Тарасовича создан институт контроля вакцин и сывороток, в феврале 1919 г. — Московский бактериологический институт им. И.И. Мечникова, ставший крупнейшим центром производства вакцин и сывороток. Аналогичные институты были открыты в Тбилиси, Киеве, Харькове, Ленинграде, Минске, Перми, Ставрополе и других городах страны. В создании отечественных оригинальных вакцин, разработке теории и практики вакцинопрофилактики и вакцинотерапии большое значение имели работы Н.Ф. Гамалеи, М.А. Морозова, Н.А. Гайского, П.Ф. Здродовского, П.А. Вершиловой, А.А. Смородинцева, В.Д. Соловьева, М.П. Чумакова, П.Н. Бургасова, О.Г. Анджапаридзе и др.
В 1920 г. по инициативе Е.И. Марциновского в Москве был создан Центральный институт малярии. Такие же институты открылись в Тбилиси, Баку, Самарканде и ряде других городов. В Саратове в 1919 г. начал работать противочумный институт «Микроб». Значительные успехи в борьбе с инфекционными болезнями во многом связаны с достижениями советской эпидемиологии, основоположником которой был Д.К. Заболотный. Развивая идеи Д.К. Заболотного и основываясь на исследованиях отечественных микробиологов, иммунологов и инфекционистов, его многочисленные ученики и последователи (Л.В. Громашевский, М.Н. Соловьев, В.А. Башенин и др.) создали теорию эпидемического процесса, сформулировали основные закономерности эпидемиологии, основанные на глубоком анализе взаимосвязей источника и очага инфекции, путей и механизмов ее передачи, взаимодействия биологических и социальных факторов в возникновении и развитии эпидемий. Теория эпидемического процесса исходила из принципиальных положений об активном влиянии на него человека, о возможности влиять на возникновение и течение эпидемий, что создает реальные предпосылки для их ликвидации. Л.В. Громашевский, Т.Е. Болдырев, Г.Ф. Вогралик, В.А. Башенин и др. показали, в частности, значение социальных факторов в эпидемическом процессе, выделили четыре типа локализации возбудителей в органах и соответственно четыре типа механизма передачи возбудителя заразных болезней.
Классические исследования по эпидемиологии чумы, холеры, сибирской язвы и брюшного тифа были проведены Д.К. Заболотным, П.Н. Диатроптовым, Л.А. Тарасовичем, С.И. Златогоровым, М.Н. Соловьевым и др. В 1922 г. Д.К. Заболотным были сформулированы основные положения о природной очаговости чумы, которые легли в основу современных представлений о ее эпидемиологии. Начатые еще до революции Д.К. Заболотным, Е.И. Марциновским и др. исследования очагов трансмиссивных заболеваний, особенно чумы, получили дальнейшее развитие и обогатились новым содержанием в работах Е.Н. Павловского и его учеников Н.И. Латышева, А.Я. Алымова, П.А. Петрищевой, Ф.Ф. Талызина и др. Результаты сотен экспедиций, обследовавших природные очаги и возбудителей болезней, многочисленных исследований, ведущихся в различных направлениях, изучение географии распределения паразитарных заболеваний, их краевой патологии получили обобщение в учении о природной очаговости трансмиссивных болезней человека, сформулированном Е.Н. Павловским в 1939 г. Это учение открыло пути искоренения многих паразитарных и инфекционных болезней.
К.И. Скрябин и его ученики создали учение о распространении гельминтов и борьбе с ними. Подробно изучен механизм развития паразитов в окружающей среде, а также проникновения их в организм человека, в различные органы и ткани через посредство растений, почвы и животных, разработаны эффективные меры защиты человеческого организма от попадания в него различных гельминтов и паразитов. Итогом капитальных исследований К.И. Скрябина, ставшего одним из основоположников гельминтологии как науки, являются созданные им учения о дегельминтизации и девастации, в основе которых лежит принцип активной борьбы за полную ликвидацию «очервления» животных, окружающей среды и населения. Ликвидация ришты (дракункулеза) в среднеазиатских очагах этого заболевания в 1931 г., осуществленная под руководством Л.М. Исаева, иллюстрирует возможность девастации и при других гельминтозах.
Научные исследования советских микробиологов были направлены на создание действенных средств профилактики и лечения инфекционных и паразитарных заболеваний: вакцин, сывороток, бактериофагов, антибиотиков и др. В начале 30-х гг. М.П. Покровская впервые в СССР получила эффективный штамм чумной вакцины, Н, Н. Жуков-Вережников экспериментально разработал принципы получения вакцин против чумы, на основе которых была создана отечественная живая вакцина (1944) и предложен эффективный комплексный метод лечения первичной легочной чумы (1945). В борьбе с инфекциями большую роль сыграли вакцины против бруцеллеза (П.Ф. Здродовский), туляремии (Н.А. Гайский) и сибирской язвы (Н.Н. Гинсбург), сыпного тифа (М.К. Кронтовская, М.М. Маевский), сухая противооспенная вакцина (М.А. Морозов), вакцины против туберкулеза (БЦЖ), холеры, столбняка и др., а также комплексная вакцина АКДС — против коклюша, дифтерии и столбняка и др. Наряду с вакцинами разработаны многочисленные средства лечения и профилактики: сыворотки, бактериофаги, антитоксины и другие биологические и химиотерапевтические препараты.
Советские ученые Е.И. Марциновский, Л.М. Исаев, Н.И. Ходукин, Н.И. Латышев, В.Н. Беклемишев, П.Г. Сергиев и др. внесли значительный вклад в дело борьбы с малярией в СССР. Осуществление общегосударственной системы противомалярийных мероприятий привело в 1964 г. к ликвидации малярии как массового заболевания почти на всей территории СССР. Успех работы по ликвидации в СССР малярии, которой в 1934 г. болело около 9,5 млн. человек, был обусловлен эффективностью комплексных мер борьбы, основу которых составляли выявление и лечение больных и паразитоносителей. Немалое значение в проведении мер борьбы с малярией имела деятельность противомалярийных станций и институтов малярии.
Значительный вклад в развитие микробиологии, иммунологии и вирусологии в нашей стране внесли Н.Ф. Гамалея, Д.К. Заболотный, В.А. Барыкин, В.Д. Тимаков, Л.А. Зильбер, П.Ф. Здродовский, М.А. Морозов, В.Л. Троицкий, Н.Н. Жуков-Вережников, П.Н. Косяков, В.Д. Соловьев, М.П. Чумаков, В.М. Жданов, Р.В. Петров, А.А. Смородинцев и др. Были проведены фундаментальные исследования по важнейшим проблемам молекулярной генетики — трансфекции и трансформации, которые включают изучение процессов внедрения и функционирования посторонней ДНК в бактериальных клетках, генетических основ вирулентности, репарации ДНК бактерий после различного рода повреждений и генетической регуляции биохимических процессов, протекающих в бактериальной клетке. Разработана принципиально новая модельная система, позволяющая осуществлять введение ДНК в бактерии, которые обычно не способны воспринимать ДНК извне, и изучены оптимальные условия этого процесса. Выявлены и картированы гены, определяющие синтез соматического антигена дизентерийных бактерий, предложена генетическая классификация этих бактерий. Изучены отдельные этапы восстановления бактериями повреждений их ДНК, вызываемых радиацией и химическими веществами. На хромосоме сальмонелл установлена локализация ряда генов и определена их репаративная функция. Выявлена корреляция между мутабильностью бактерий и активностью определенных репаративных генов. В исследованиях по генетической регуляции биохимических процессов у бактерий установлено, что мутация по системам транспорта углеводов приводит к повышению выработки катаболических ферментов. Эти данные нашли практическое применение при получении продуцентов. резистентных к катаболитной репрессии.
В.Д. Тимаковым и Г.Я. Каган были получены L-формы большинства патогенных видов бактерий, изучены условия их образования и реверсии в исходные бактериальные формы. Была показана возможность возникновения и реверсии L-форм бактерий в организме больных людей, а в этой связи и способность этих форм не только поддерживать очаги инфекции в организме, но и вызывать хронические патологические процессы. Была выявлена роль отдельных видов микоплазм в этиологии пневмонии, неспецифических воспалительных процессов урогенитальной сферы, в патологии беременности, плода и новорожденных. Изучение латентной микоплазменной инфекции в клеточных линиях и вирусных препаратах привело к разработке принципов и методов их деконтаминации, что имеет важное значение как для вирусологии, иммунологии, генетики соматических клеток, так и для производства вирусных препаратов,
Дальнейшее развитие получили исследования, связанные с изучением морфологии и онтогенеза различных видов патогенных бактерий. Разработаны методы электронно-микроскопического изучения цитохимии окислительных ферментов бактерий и показано, что у анаэробных бактерий, в отличие от аэробных, окислительные ферменты не связаны с мембранными структурами.
Значительный вклад внесен в развитие теоретических аспектов иммунологии: изучение механизмов естественной резистентности и природной антигенности, физико-химических основ иммунологических реакций и клеточных основ иммуногенеза, анализ поствакцинального иммунитета и др. Достигнуты успехи в изучении противовирусного иммунитета, в радиационной иммунологии, иммунопатологии (В.И. Иоффе, П.Н. Косяков, Р.В. Петров и др.). Международное признание получили работы по противоопухолевому иммунитету (Л.А. Зильбер, Г.И. Абелев и др.).
Получены важные данные о биосинтезе и строении антител, катаболизме иммуноглобулинов, биологических свойствах антител и их структурных субъединиц. Установлен минимальный размер фрагмента молекулы антитела, сохраняющего антигенсвязывающие функции, продемонстрировано существование асинхронности в синтез полипептидных цепей иммуноглобулинов. Изучение биологических свойств иммуноглобулинов и их фрагментов позволило подойти к решению вопроса о регуляции биосинтеза антител по типу обратной связи. Углубленное изучение структуры антител открыло перспективы получения препаратов гамма-глобулина со сниженной анафилактогенной активностью. Важное значение имела разработка новых методов получения иммуносорбентов. Разработан оригинальный метод агрегат-гемагглютинации, позволяющий определять предельно малые количества различных антигенов.
Исследования в области иммуноморфологии и клеточного иммунитета внесли существенный вклад в понимание механизмов дифференцировки родоначальных клеток кроветворной ткани. Изучен ряд гуморальных факторов, влияющих на направление дифференцировки клеток кроветворной ткани и на кооперацию лимфоидных клеток в иммунном ответе. Продемонстрировано различие в структуре и свойствах рецепторов-предшественников антитело-образующих клеток и клеток, ответственных за реакции трансплантационного иммунитета. Изучение клеточных механизмов иммунологической толерантности позволило разработать экспериментальные модели толерантности у взрослых животных. Изучение механизма возникновения аутоиммунных заболеваний привело к установлению важной роли антигенов микроорганизмов, прежде всего стрептококка А, перекрестно реагирующих с антигенами тканей человека. У ряда штаммов возбудителей особо опасных болезней (холера, чума) выявлено антигенное сходство с некоторыми тканями человека и животных и установлена зависимость степени вирулентности исследованных штаммов от наличия антигенов.
Фундаментальные исследования в области вирусологии позволили найти оригинальные подходы к изучению природы возбудителей таких болезней, как вирусный гепатит, лейкоз и др., опухоли человека и животных, а также усовершенствовать методы диагностики, лечения и профилактики вирусных болезней. Были достигнуты успехи в борьбе с распространенными вирусными заболеваниями — корью и полиомиелитом.
Широкое развитие получили научные исследования в области молекулярной биологии вирусов (В.М. Жданов и др.). На основе современных данных о вирусных нуклеиновых кислотах и белках, их молекулярной и надмолекулярной организации, архитектуре вирионов, способах репродукции генетических материалов вирусов, формирования субвирусных структур и полноценных вирионов, а также данных по молекулярно-биологическим основам взаимодействия вирусов с клетками были сделаны первые шаги в новой области — химиотерапии вирусных инфекций.
Выполнен обширный комплекс работ по изучению синтеза вирусных специфических макромолекул при репродукции РНК-содержащих вирусов. Наряду с данными по механизму репликации вирусных нуклеиновых кислот были получены важные результаты при изучении вирусспецифической транскрипции. Описаны основные характеристики нуклеокапсида в составе транскриптивного комплекса, причем выявлены некоторые его отличия от нуклеокапсида, выделенного из вирионов. Получила признание разработанная советскими учеными концепция функционирования нуклеокапсидоб в составе транскриптивного комплекса.
Разработана система сопряженного синтеза вирусных РНК и белков на субклеточных структурах и показано, что конечным продуктом синтеза является формирование инфекционного рибонуклеопротеида. Дальнейшим развитием этого направления исследований является изолирование митохондрий в качестве бесклеточных систем сопряженного синтеза вирусных макромолекул. Выполнен ряд исследований по молекулярной структуре вирусных частиц на моделях фагов и вирусов растений. Получены оригинальные данные при изучении интерференции вирусов.
Принципиально важные результаты были получены при изучении молекулярных механизмов хронических вирусных инфекций типа системной красной волчанки и таких модельных систем, как клетки НЕ-2, зараженные вирусом клещевого энцефалита, мышиные клетки, хронически инфицированные вирусом Синдбиса, и культура клеток фибробластов, хронически инфицированных вирусом кори.
Большой вклад в развитие вирусологии внес Л.А. Зильбер. Он с сотрудниками открыл вирус весенне-летнего клещевого энцефалита, описал эпидемиологию этого заболевания и предложил меры его профилактики. Первым в СССР он начал изучение онкогенных вирусов и вирусной этиологии злокачественных новообразований. В 1944—1961 гг. он сформулировал оригинальную вирусогенетическую теорию происхождения опухолей. Для выявления вирусов в опухолях Л.А. Зильбер с сотрудниками разработал (1948— 1949) реакцию анафилаксии с десенсибилизацией, позволившую доказать наличие антигена, специфичного для тканей опухолей. Это открытие положило начало иммунологии рака. Экспериментальным путем Л.А. Зильбер с сотрудниками обнаружили в опухолях специфические вирусные и клеточные антигены, индукцию злокачественных опухолей у млекопитающих вирусом саркомы кур (1957), трансформацию клеток человека вирусом саркомы кур in vitro (1964).
Направление исследований, начатое школой Л.А. Зильбера, получило свое оригинальное развитие в работах Г.И. Абелева и Ю.С. Татаринова, которые обнаружили и исследовали альфа-фетопротеин при гепатоцеллюлярном раке и эмбриональных тератобластомах и создали иммунологический метод диагностики этих форм злокачественных опухолей.
Впервые обнаружена продукция эмбрионального альфа-протеина при первичном раке печени и злокачественных тератобластомах яичка и яичников у человека. На базе данного открытия впервые для онкологической практики был предложен метод иммунодиагностики опухолей. Высокая специфичность и практическая ценность метода иммунодиагностики первичного рака печени подтверждена результатами его широкой клинической апробации.
Разрабатываются актуальные вопросы экологии гриппа, молекулярной биологии вирусов гриппа, иммунологии, эпидемиологии, профилактики и лечения этого заболевания. Наиболее важным вкладом отечественных вирусологов в разработку данной проблемы явилось учение об изменчивости вирусов гриппа и получение живых гриппозных вакцин. Разработан, изучен и внедрен в практику здравоохранения препарат ремантадин, подавляющий ранние этапы вирусного синтеза. Исследованиями по экологии вирусов гриппа продемонстрировано наличие богатого генофонда природных вирусных популяций как возможного источника возникновения новых вариантов вирусов-возбудителей болезней человека. Показаны особенности циркуляции разных экологических групп арбовирусов в различных географических поясах мира (Д.К. Львов и др.). На этой основе с использованием математических методов сделан прогноз существования природных очагов арбовирусов в СССР. В результате проверки прогноза в различных районах страны было выделено 30 и идентифицировано 20 арбовирусов, 13 из которых являются новыми для науки; они включены в Международный каталог. Изучены биофизические, морфологические и антигенные характеристики изолированных вирусов. Работа по выявлению арбовирусов на территории СССР показала существование стойких природных очагов в условиях Севера, субарктики, а также в пустынной зоне Средней Азии и в Закавказье.
Большое значение имели исследования вирусных геморрагических лихорадок. Созданы и апробированы вакцина для профилактики крымской геморрагической лихорадки, гипериммунный специфический гамма-глобулин для лечения больных этой инфекцией. Проводится изучение экологии возбудителя омской геморрагической лихорадки, эпидемиологии и этиологии геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
Достижения всех разделов микробиологии, эпидемиологии и гигиены оказали существенное влияние на развитие профилактического направления советской М. и здравоохранения, получили международное признание.
XXIII Всемирная ассамблея здравоохранения (1970) по инициативе делегации СССР приняла резолюции, в которых рекомендует в качестве наиболее эффективных принципов построения и развития систем национального здравоохранения провозглашение ответственности государства и общества за охрану здоровья населения, создание единого национального плана здравоохранения, проведение мер общественной и индивидуальной профилактики, обеспечение всего населения квалифицированной и бесплатной профилактической и лечебной помощью и др.
Проблемы современной медицины
Под воздействием социально-экономических перемен и достижений М. произошли существенные изменения в состоянии здоровья населения, уменьшились показатели смертности. В экономически развитых странах ликвидированы особо опасные эпидемические заболевания, сократилась заболеваемость детскими инфекциями. Вместе с тем проблема борьбы с гриппом, вирусным гепатитом и другими вирусными болезнями остается актуальной; именно с ними связана высокая заболеваемость, приносящая огромный ущерб здоровью людей и народному хозяйству вследствие массовой временной нетрудоспособности больных. Серьезные проблемы ставит перед всем человечеством ранее неизвестное и появившееся в последние годы заболевание — синдром приобретенного иммунного дефицита — СПИД (см. ВИЧ-инфекция).
Особое значение приобрели проблемы ишемической болезни сердца (в т.ч. инфаркта миокарда), гипертонической болезни и сосудистых поражений центральной нервной системы, на которые приходится более 80% всех случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Факторы, увеличивающие риск их возникновения (нервное напряжение, недостаточная физическая активность, нерациональное избыточное питание, злоупотребление алкоголем и курением), свидетельствуют об их социальной обусловленности. Вместе с тем достигнуты значительные успехи в диагностике и лечении этих заболеваний. Так, за 30 лет втрое увеличились шансы больного инфарктом миокарда на выздоровление и возвращение к трудовой деятельности. В СССР почти 80% лиц, перенесших инфаркт миокарда, возвращаются к прежнему труду. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями требует массовых систематических мероприятий государственного, общественного и медицинского характера (организация рационального режима труда, питания и отдыха, развитие массовых форм физкультуры, создание оптимального психологического климата, активное выявление заболевших, своевременное амбулаторное и стационарное лечение и т.д.).
Острая проблема медицины — злокачественные новообразования. Смертность от них в большинстве экономически развитых стран увеличилась за последние 60 лет в 2—3 раза. Ежегодно в мире умирает от рака около 5 млн. человек. Природа опухолевого роста полностью не раскрыта, предстоит многое узнать о механизмах действия химических канцерогенных веществ, излучений, онкогенных вирусов, о защитных механизмах организма. В СССР насчитывается свыше полумиллиона человек, которые десять и более лет назад закончили лечение по поводу онкологического заболевания. Улучшению результатов лечения опухолей способствовали совершенствование диагностики и оперативных методов, применение современной техники лучевой терапии. Наиболее эффективным оказалось комбинированное (хирургическое, лучевое, химиотерапевтическое) лечение. Многие научные прогнозы позволяют считать, что проблема рака может быть решена еще в 20 в.
Важная проблема современности — рост числа нервно-психических расстройств, которые в ряде стран называют «проблемой номер один». В США, ФРГ и других экономически развитых странах не менее 10% населения страдают различными нервно-психическими расстройствами, среди них первое место занимают алкоголизм и наркомании. В СССР и других странах этим проблемам уделяется серьезное внимание. Образованы специальные наркологические службы, состоящие из нескольких звеньев, которые действуют на основе преемственности и единых принципов. В 1981 г. создан Всесоюзный научный центр психического здоровья АМН СССР, в состав которого вошли институты мозга и психиатрии, а также Сибирский филиал в Томске и НИИ профилактической психиатрии в Москве. Создана общегосударственная программа по разработке и внедрению методов и средств профилактики, ранней диагностики и лечения алкоголизма, наркоманий и токсикоманий.
Одной из наиболее актуальных является и проблема борьбы с травматизмом. Современная программа борьбы с травматизмом включает комплексный научный анализ причин травматизма, разработку на основе этого анализа конкретных рекомендаций по его снижению и неуклонную реализацию этих рекомендаций.
Особое социальное значение приобрела проблема охраны и оздоровления окружающей среды. Загрязнение воды, воздуха, почвы, нарушение экологического равновесия в биосфере отрицательно сказываются на здоровье человека. Вследствие загрязнения окружающей среды многих районов планеты превышен порог самозащиты природы, вследствие чего борьба за оздоровление окружающей среды, охрана природы приобрели международное значение.
Особую опасность для населения городов и промышленных центров представляют продукты сгорания угля и нефти, взвешенные частицы пыли и металлов и т.д. Ежегодно в окружающую среду выбрасываются сотни миллионов тонн золы и различных химических веществ; в открытые водоемы поступают десятки миллионов кубометров промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод, содержащих концентрированные растворы различных вредных для живых организмов химических веществ. Даже многие крупные реки (Рейн, Миссисипи, Дунай, Волга и др.) чрезвычайно загрязнены. Это приводит к накоплению в воде различных химических соединений, солей металлов, инсектицидов, загрязнителей, а также устойчивых, не существовавших ранее в природе неорганических веществ. Загрязнение водоемов ограничивает использование пресной воды, нарушает жизнедеятельность водных растений, планктона, рыб, установившийся в природе водный баланс.
Быстро нарастает загрязнение почвы промышленными, бытовыми и с.-х. отходами. Вокруг многих крупных промышленных производств образовались искусственные биогеохимической провинции с повышенным содержанием в почве свинца, мышьяка, марганца, фтора, ртути, кадмия, радиоактивных и других химических элементов, что приводит к увеличению содержания этих веществ в растениях и организмах животных, используемых человеком для питания.
Многие исследователи пришли к выводу, что существующие в природе высокоэффективные механизмы самоочищения могут быть перегружены, особенно в том случае, когда загрязнение будет происходить с очень высокой скоростью или будет сконцентрировано на небольшой территории. Особое беспокойство в этом отношении вызывает загрязнение атмосферного воздуха двуокисью углерода и аэрозолями. Стало ясно, что от решения этой проблемы зависят здоровье и благосостояние не только ныне живущих, но и будущих поколений людей.
Широкое распространение пестицидов начиная с 40-х гг. 20 в. привело к тому, что ядохимикаты стали постоянным компонентом природной среды. Происходят постоянная миграция пестицидов в мировом масштабе, аккумуляция их в экологических системах и глубокие нарушения взаимосвязей в этих системах; отмечается появление резистентных к пестицидам форм вредителей с.-х. продуктов, гибель некоторых полезных организмов.
Все более серьезной становится проблема защиты населения от возрастающего влияния таких вредных физических факторов окружающей среды, как шум, вибрации, электромагнитные поля различных частотных диапазонов, что связано с увеличением мощности двигателей различных видов транспортных средств, широким использованием электроприборов в коммунальном и жилищном строительстве, в промышленности и в быту, ростом числа и мощности радио- и телестанций, радиолокационных установок. Шум мешает отдыху людей днем, вызывает у них бессонницу ночью, служит причиной заболеваний нервной системы, способствует развитию гипертонической болезни. Установлено, что шум на работе ослабляет внимание, память и реакцию, выматывает физически и психологически, сокращает производительность ручного (на 30%) и умственного (на 60%) труда. После звукоизоляции контор одной из крупных амер. страховых компаний ошибки расчетчиков сократились на 52%, а ошибки машинисток — на 29%.
Одно из нежелательных последствий научно-технического прогресса — увеличение количества мутагенных факторов физической и химической природы в среде обитания человека. Из физических факторов на первом месте по мутагенному действию стоят различные виды ионизирующего излучения, обладающие большой проникающей способностью. Мутагенное действие ионизирующего излучения было установлено еще в конце 20-х гг. Исследованиями 50—70-х гг. установлено, что мутагенное действие ионизирующих излучений обладает всеобщностью и беспороговостью, т.е. любые дозы излучения могут вызывать генетические повреждения. Расчеты, проведенные генетиками, показали, что даже незначительные дозы (в пределах 0,3—0,5 Гр) могут привести к увеличению численности больных наследственными болезнями в 2 раза. Тяжелые последствия аварии на Чернобыльской АЭС [см. Чернобыльская АЭС (медико-биологические и социальные аспекты аварии)] со всей остротой поставили вопросы об организации современной комплексной системы профилактики и лечения в области радиационной медицины.
Нарастание количества экстремальных ситуаций в виде крупных аварий, катастроф, стихийных и экологических бедствий, затрагивающих жизнь и здоровье большого числа людей, потребовало создания принципиально новой системы оказания экстренной и масштабной медпомощи. Решить эту задачу взяло на себя возникшее в последние десятилетия направление медицины — Медицина катастроф.
Способностью вызывать генетические повреждения обладают и многие химические соединения, причем последствия мутагенного действия химических соединений были осознаны лишь в 60—70-х гг., в период интенсивного развития химической промышленности. Установлено, что некоторые химические соединения по интенсивности мутагенного действия превосходят ионизирующее излучение, в связи с чем в литературе утвердился термин «супермутагены», которым обозначаются вещества, обладающие в десятки и сотни раз большей мутагенной активностью, чем радиация, и не влияющие при этом в заметной мере на жизнеспособность клеток и организмов, Список таких супермутагенов постоянно расширяется. Обнаружена цитогенетическая активность ряда пестицидов, мутагенная и канцерогенная активность окислов азота, нитратов. нитритов, нитрозаминов и ряда других нитросоединений; изучен мутагенный эффект алкилирующих соединений, образующихся из отходов промышленности и при «открытых» технологических процессах и т.д. Кроме того, попадая в окружающую среду, мутагенные вещества и соединения могут взаимодействовать друг с другом, в результате чего создаются высокие концентрации совершенно новых и не изученных опасных мутагенных комплексов, смесей и соединений.
Развитие технологии консервирования поставило потребителей в условия непосредственного контакта с некоторыми химическими мутагенами — формалином, пропиленгликолем, гексаметилентетрамином, нитратом калия, нитратом натрия и др. В совокупности современная консервная промышленность вследствие слабого государственного санитарного надзора может служить одним из источников поступления химических мутагенов в организм человека.
В СССР в законодательном порядке закреплены права санитарно-эпидемической службы в осуществлении мероприятий по охране воды, воздуха, почвы от загрязнений. Запрещено, в частности, вводить в эксплуатацию промышленные предприятия без очистных сооружений; строительство любого объекта, как и планировка населенных мест, должны осуществляться только при соблюдении санитарных норм и правил; предписания санитарного врача обязательны для выполнения всеми государственными, общественными организациями и учреждениями и отдельными гражданами.
В целях повышения эффективности профилактики, ускорения разработки и внедрения научных методов укрепления здоровья населения, первичной и вторичной профилактики неинфекционных заболеваний в Москве организован (1988) Всесоюзный научно-исследовательский центр профилактической медицины.
Изменившаяся картина заболеваемости находится в тесной причинной связи со сдвигами в демографических процессах, которые в экономически развитых странах характеризуются тенденцией к снижению рождаемости, относительной стабилизацией общей и детской смертности и высокой средней продолжительностью жизни (69—73 года). Происходит общее «постарение» населения, т.е. увеличение удельного веса лиц 60 лет и старше (в ряде стран до 18—20%).
Кроме научных проблем, перед современной М. острее, чем когда-либо, стоят этические проблемы, касающиеся взаимоотношений врача и больного, пределов допустимого вмешательства (например, воздействия на психику психотропными средствами), донорства при пересадках органов и т.д. Об опасности забвения этической стороны М. свидетельствуют, например, такие факты, как проведение антигуманных экспериментов на людях в фашистской Германии или участие врачей в подготовке бактериологической войны. Высокие гуманные и нравственно-этические принципы врача-гражданина законодательно закреплены в Присяге врача Советского Союза.
В обстановке гонки ядерных вооружений актуальной стала борьба за мир и разоружение. В начале 80-х годов было основано международное движение «Врачи мира за предотвращение ядерной войны». Профессиональное в своей основе, объединяющее ученых и врачей разных национальностей, политических взглядов и религиозных верований, это движение отражает суть врачебной профессии, призванной защищать жизнь и здоровье людей. Ill Международный конгресс этого движения предложил дополнить национальные и международные клятвы и кодексы о профессиональном этическом долге врача пунктом, обязывающим медиков бороться против ядерной катастрофы В соответствии с этим предложением и идя навстречу пожеланиям советской медицинской общественности, Президиум Верховного Совета СССР своим Указом от 15 ноября 1983 г. постановил дополнить текст Присяги врача Советского Союза абзацем следующего содержания: «Сознавая опасность, которую представляет собой ядерное оружие для человечества, неустанно бороться за мир, за предотвращение ядерной войны».
За заслуги перед человечеством по распространению достоверной информации о катастрофических последствиях ядерной войны и доведения ее до сознания людей международное движение «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» было удостоено Нобелевской премии мира за 1985 год.
Библиогр.: Бородулин Ф.Р. Лекции по истории медицины, лекции 2—6, М., 1954—1955. Бородулин В.И., Очерки истории отечественной кардиологии, М., 1988; Везалий А. О строении тела, пер. с латин., т. 1—2, М., 1950—1954; Венгерова И.В. и Шилинис Ю.А. Социальная гигиена и СССР, М., 1976, библиогр.: Врачи-большевики — строители советского здравоохранения, под ред. Е.И. Лотовой и Б.Д. Петрова, М., 1970, библиогр.: Вязьменский Э.С. Из истории древней китайской биологии и медицины, Труды института истории естествознания и техники, т. 4, с. 3, М., 1955; Галек Клавдий. О назначении частей человеческого тела, пер. с древнегреческ., М. 1971, Гарвей В. Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных, пер. с латин., М., 1948; Гезер Г. История повальных болезней, пер. с нем., ч. 1—2, Спб., 1867; он же, Основы истории медицины, пер. с нем., Казань, 1890; Гиппократ, Сочинения, пер. с греческ., т. 1—3. М., 1936—1944, Глязер Г. Драматическая медицина, пер. с нем., М., 1965; он же, Исследователи человеческого тела, От Гиппократа до Павлова, пер. с нем., М., 1956; он же, Основные черты современной медицины, пер. с нем., М., 1962; Громбах С.М. Русская медицинская литература 18-го века, М., 1953; Жданов Д.А. Леонардо да Винчи анатом, М. —Л., 1955; Заблудовский П.Е. Возникновение медицины в человеческом обществе, М., 1955; он же; История медицины, в. 1, М., 1953; он же. История отечественной медицины, ч. 1—2, М., 1960—1971; Змеев Л.Ф. Русские врачи-писатели, в. 1—5, Спб., 1886—1889; он же, Чтения по врачебной истории России, Спб., 1896; Ибн Сина Лбу Али (Авиценна). Канон врачебной науки, пер. с арабск., кн. 1—5, Ташкент, 1954—1960; История медицины, под ред. Б.Д. Петрова, т. 1, М., 1954; История медицины СССР, под ред. Б.Д. Петрова, М., 1964; Каневский Л.О., Лотова Е.И. и Идельчик X.И. Основные черты развития медицины в России в период капитализма (1861—1917), М., 1956, библиогр.; Ковнер С.Г. История арабской медицины, Киев, 1893; он же, История медицины, в. 1—3, Киев, 1878—1888; Конюс Э.М. История русской педиатрии, М., 1946, библиогр.; Коштоянц X.С, Очерки по истории физиологии а России, М.—Л., 1946, библиогр.; Куприянов Н.Г. История медицины, составленная по лекциям профессора С.Е. Ивановского, Спб., 1852; Лахтин М. Этюды по истории медицины, М., 1902; Лахтин М.Ю. Медицина и врачи в Московском государстве (в допетровской Руси), М., 1906; Лукреций К.Т. О природе вещей, пер. с латин., т. 1, с. 39, 493, М.—Л., 1947; Лункевич В.В. От Гераклита до Дарвина, Очерки по истории биологии, т. 1—3, М., 1936—1943; Лушников А.Г., И.Е. Дядьковский и клиника 19-го века, М., 1953, библиогр.; он же, Клиника внутренних болезней в России, М., 1962; он же. Клиника внутренних болезней в СССР, М., 1972, библиогр.; Мейер-Штейнег Т. и Зудгоф К. История медицины, пер. с нем., М., 1925; Менье Л. История медицины, пер. с франц., М. — Л., 1926; Мечников И.И. Основатели современной медицины, Пастер — Листер — Кох М. — Л.,1925; Мороховец Л.З. История и соотношение медицинских знаний. М., 1903; Мудров М.Я. Избранные произволения, М., 1949: Мультановский М.П. История медицины, М., 1967; Никобадзе И.И., Татишвили И.Б. Основные этапы развития медицины в Грузии, т. 1—2, Тбилиси, 1964—1969; Новомбергский Н.Я. Материалы по истории медицины в России, т. 1—8, Спб. — Томск, 1905—1910; он же, Некоторые спорные вопросы по истории врачебного дела в до-Петровской Руси, Спб., 1903; Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы 18-го века и их воспитанники. М., 1959, библиогр.; Петленко В.П. Философские вопросы теории патологии, кн. 1—2, Л., 1968—1971; Петров Б.Д. Очерки истории отечественной медицины, М., 1962; Ромаццини В. О болезнях ремесленников, пер. с латин., М., 1961; Рихтер В.М., История медицины в России, ч. 1—3, Л., 1814—1820; Российский Д.М. История отечественной медицины и здравоохранения. Библиография, М., 1956; Скороходов Л.Я. Краткий очерк истории русской медицины, Л., 1926; Соболь С.Л. История микроскопа и микроскопических исследований в 18-ом веке, М. — Л.,1949; Тикотин М.А. Леонардо да Винчи в истории анатомии и физиологии, Л., 1957, библиогр.; Чистович Я.А. История первых медицинских школ в России, Спб., 1883; Bariéty М. et Court С. Histoire de la medicine, P., 1963, bibliogr.; Garrison F.H. An itroduction to the history of medicine, Philadelphia — L., 1929: Historia universal de la medicina, publ. par P. Entralgo, t. 1—7, Barcelona, 1972—1976; Major R.H. A history of medicine, v. 1—2, Springfied, 1954, bibliogr.; Mettier C. History of mediciine, l'hiladelphia-Toronto, 1947; Neuburger M. Geschichte der Medizin, Bd. 1—2, Stuttgart. 1906—1911; Pazzini A. Storia della medicina, v. 1—2, Milano, 1947.
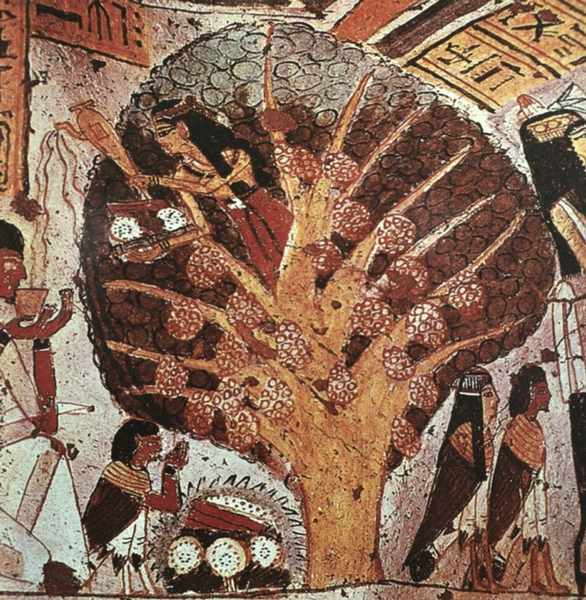
Сикимора (богиня древнеегипетского древа жизни), льющая в чашу, подставленную больным, драгоценную «влагу глубин». Фрагмент стенной росписи гробницы Панехи. Фивы. 16—14 вв. до н. э.

Памятник В.И. Поленову в Москве.
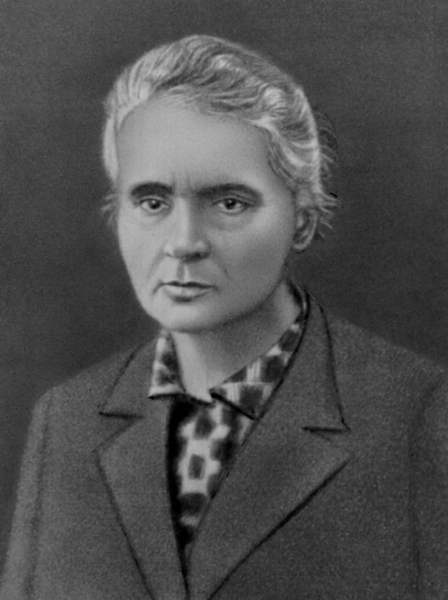
Мария Склодовская-Кюри.

С. Фрейд (в центре) с группой своих последователей.

Герман Бурхаве.
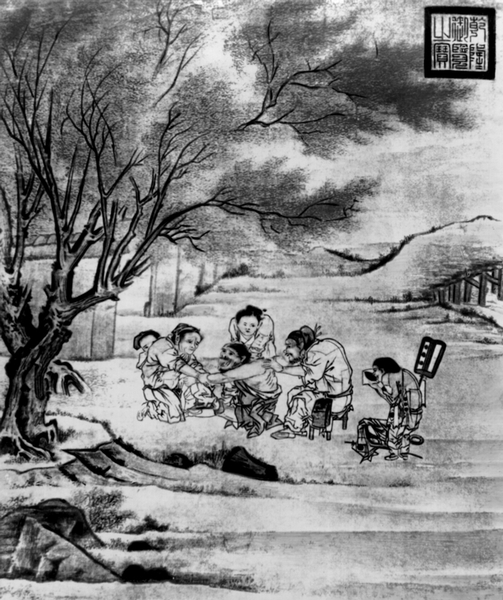
Деревенский лекарь. Живопись на шелке. Ли Тан (1049—1130).

Рене Лериш.
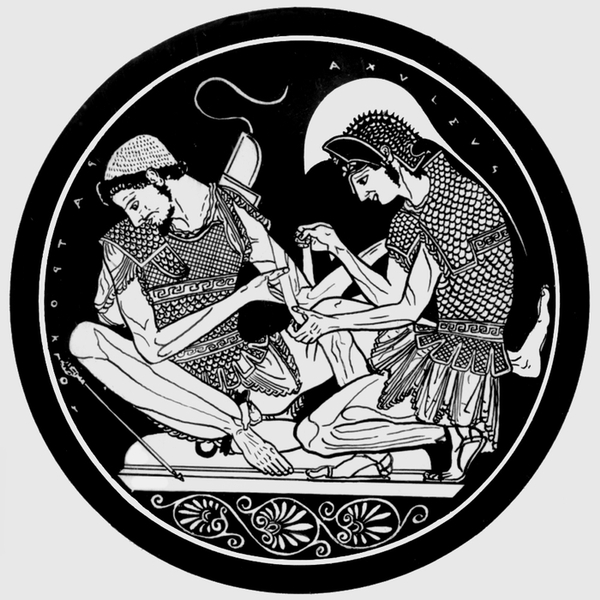
Рисунок с древнегреческой вазы, изображающий момент оказания медицинской помощи воину.
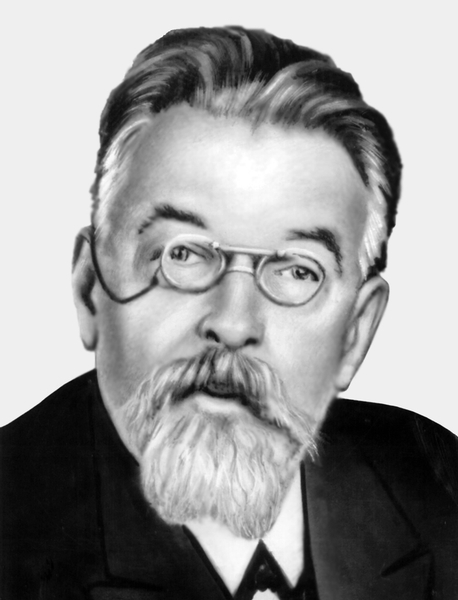
В.П. Сербский.
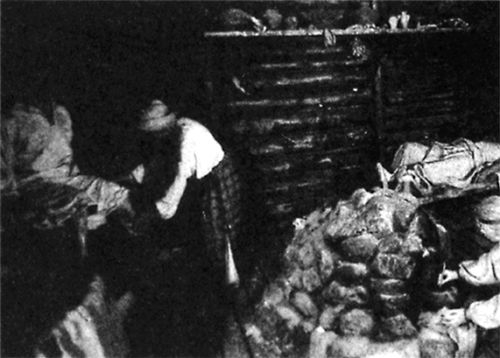
Русская баня. Цирюльник за работой.
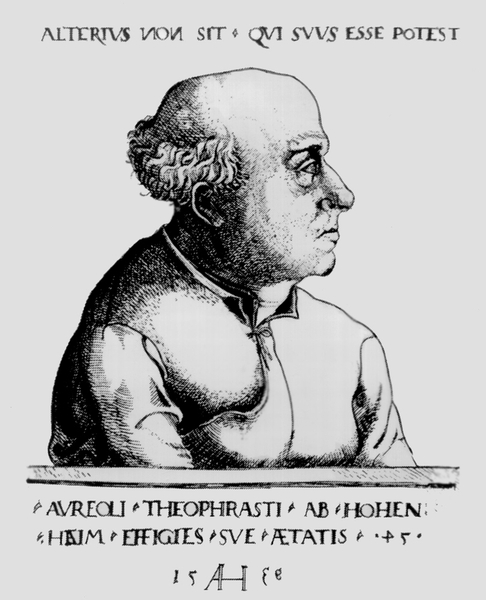
Парацельс.
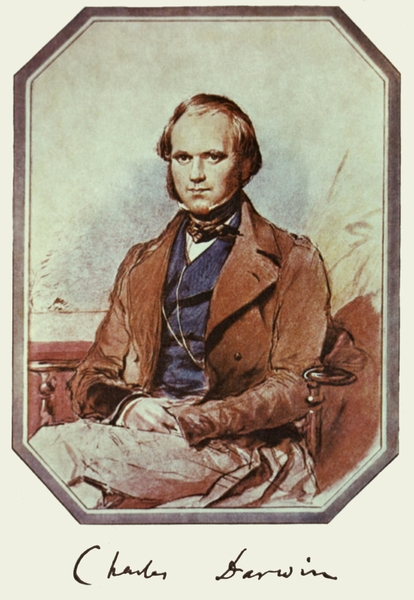
Чарльз Дарвин.

«Стоматологическая операция».
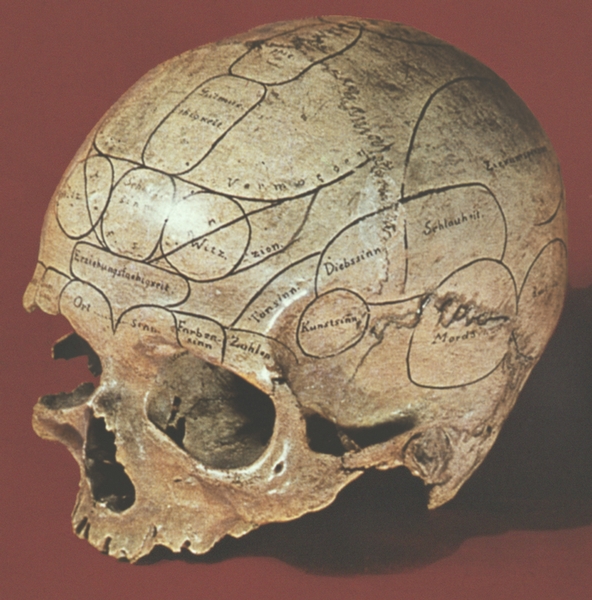
Демонстрационный череп с классификацией выпуклостей (бугров) на нем по И. Галею.

Кристоф Гуфеланд.
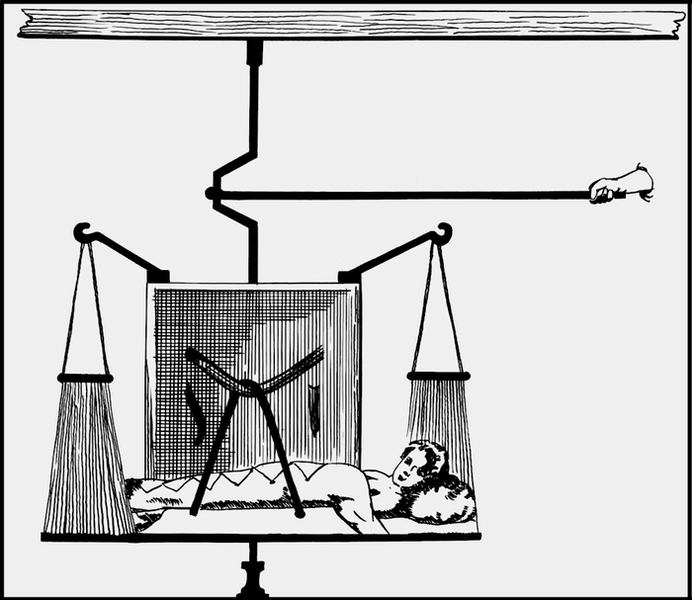
Методы «лечения» душевнобольного, применявшиеся до реформ в психиатрии Ф. Пинеля.

Фрагмент стеллы с законами царя Хаммурапи. 1792—1750 гг. до н. э.
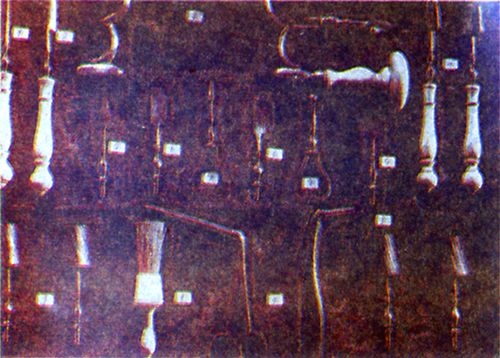
Коллекция хирургических инструментов Петра I.

Памятная доска в честь выдающегося советского биохимика В.С. Гулевича.
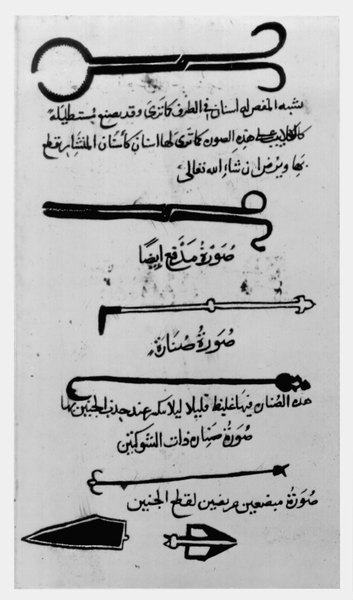
Страница из средневековой арабской рукописи с изображением хирургических инструментов.
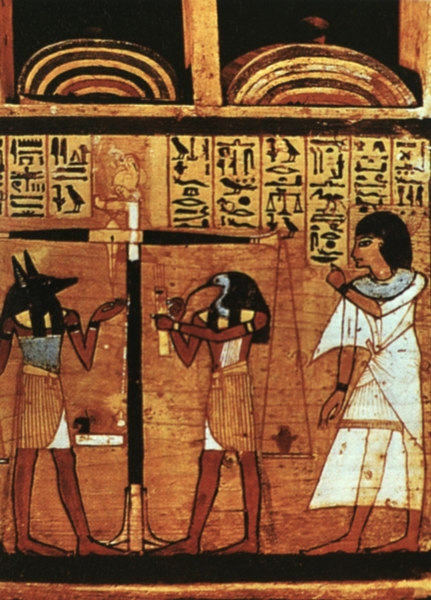
Анубис и Тот на суде Осириса взвешивают сердце умершего. Фрагмент росписи деревянного ящика для статуэток ушебти. XX в. до н. э.
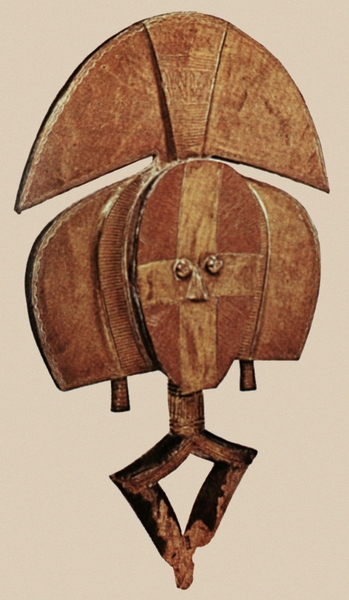
Дух мертвых. Металлическая маска африканского племени бакота (Конго).
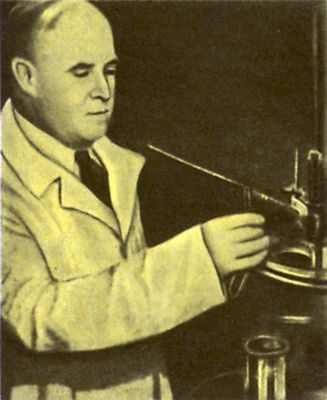
Джон Самнер.
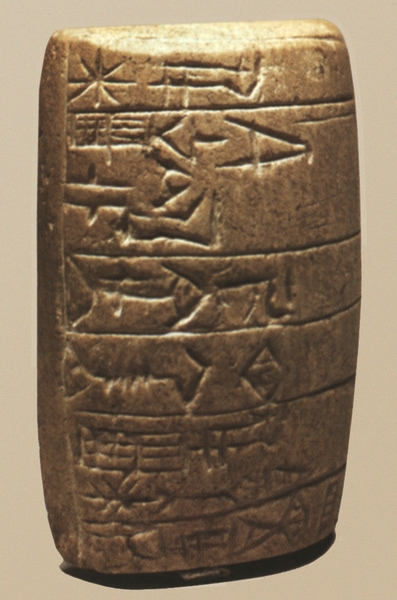
Табличка из слоновой кости с протоиероглифами. Конец 4-го тысячелетия до н. э.
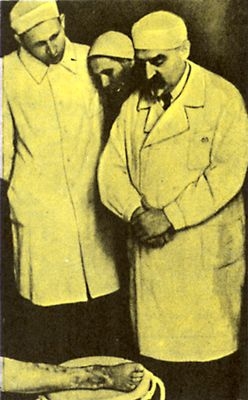
Член-корреспондент АН СССР П.А. Герцен (справа) на консультации.

Богиня милосердия Гуань-Инь. Позолоченная бронза. XI в.

«Стоматологическая операция». Рисунок из «Сборника Гиппократа».
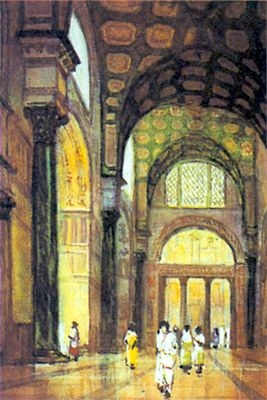
Древнеримские термы. Современная реконструкция.
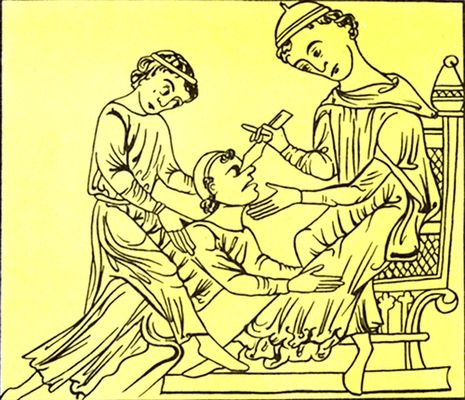
«Операция на глазу». Средневековая миниатюра. Салерно. 13 в.

Будда. Врачующий в окружении учеников и бодхисатв. Фрагмент буддийского иконостаса. XVIII в.
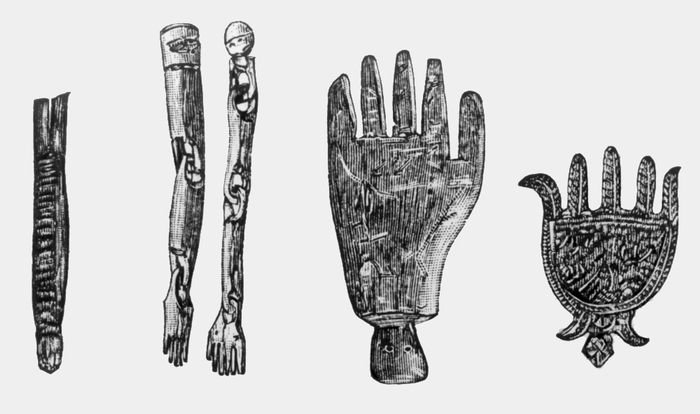
Амулеты древних народностей, предохраняющие от различных болезней: 1, 2 — амулеты нанайцев (гольдов), предохраняющие от венерических болезней (1) и болезней суставов (2); 3 — амулет нивхов (гиляков), предохраняющий от болезней рук; 4 — амулет евреев Марокко, предохраняющий от «дурного глаза».
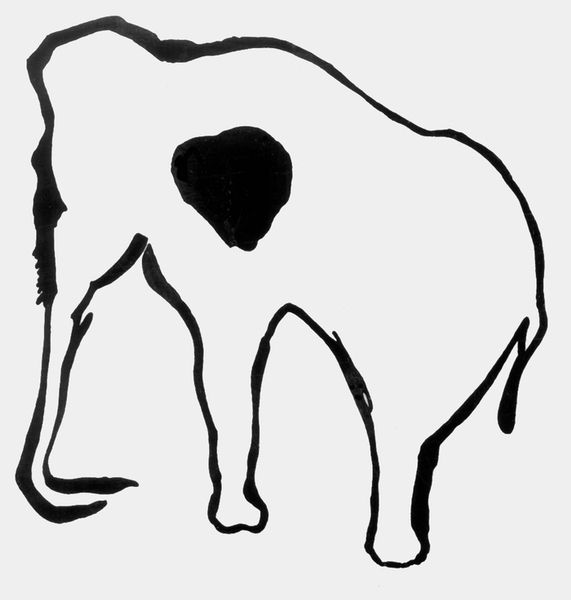
Наскальный рисунок первобытного человека, изображающий мамонта с силуэтом сердца.
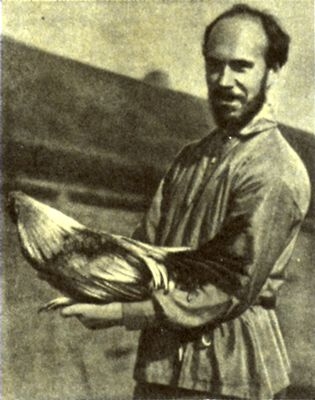
А.Л. Чижевский.

Бюст С. Ганеманна.

В.Х. Кандинский.

И.П. Павлов и У. Кеннон на физиологическом конгрессе, 1935 г.

Памятник медикам — Героям Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Построен на народные деньги.
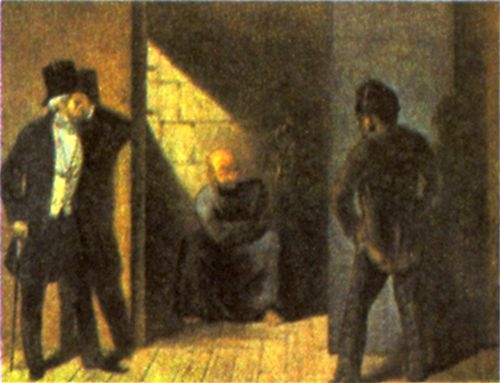
В сумашедшем доме. С картины неизвестного художника 19 в.

Сестры милосердия Крестовоздвиженской общины времен Крымской войны.
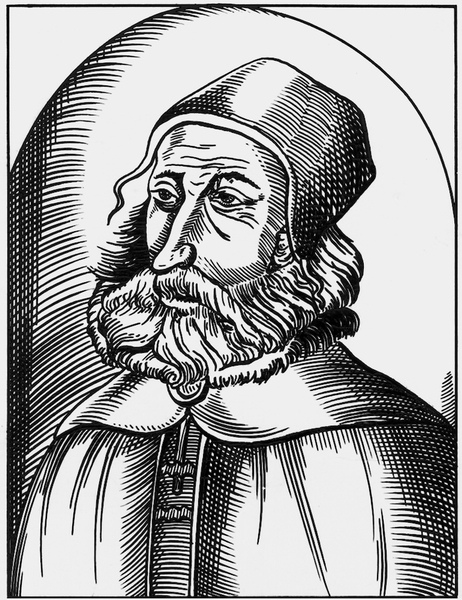
Портрет Галена из книги А. Паре «Les ocuvres», Париж, 1579 г.
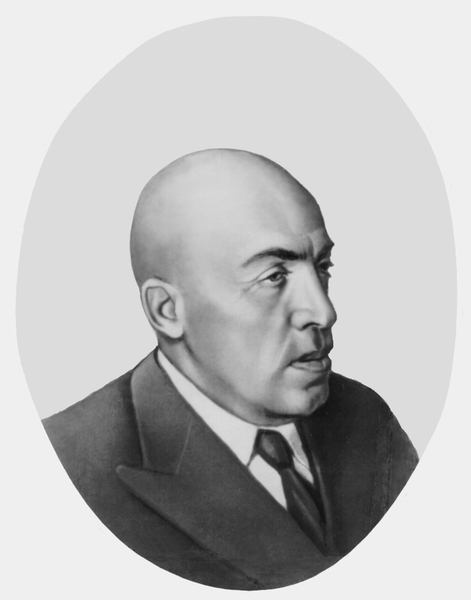
В.И. Лаврентьев.

Фридрих Гоффманн.
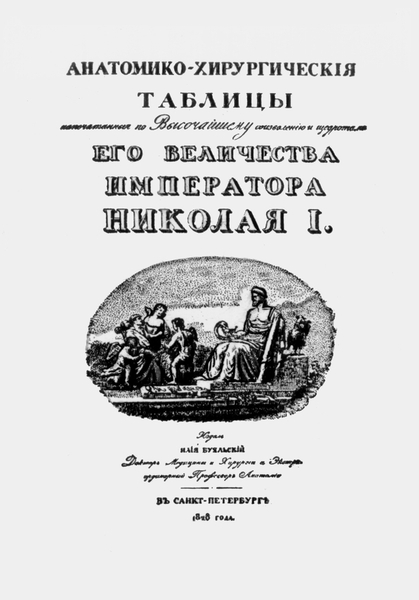
Титульный лист анатомического атласа Ильи Буяльского. Санкт-Петербург, 1828 г.
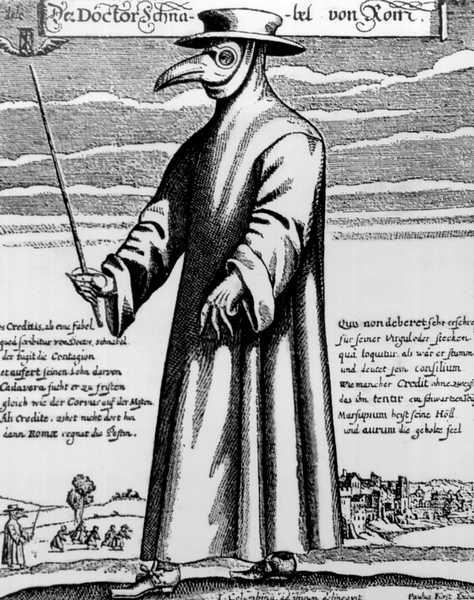
Врач в противочумной одежде.
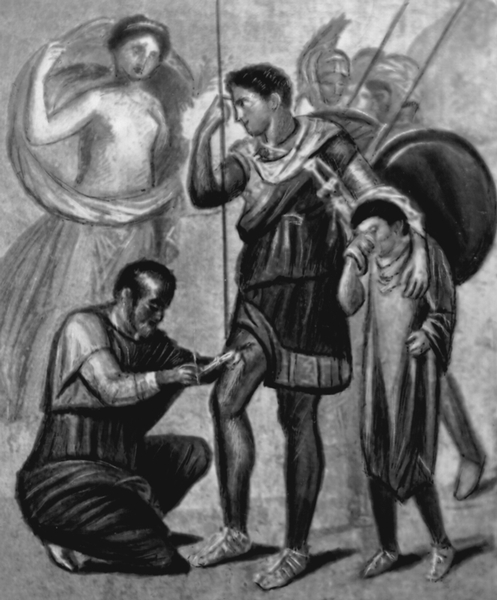
Фрагмент фрески из Помпеи, изображающий врача, извлекающего наконечник стрелы из бедра воина.
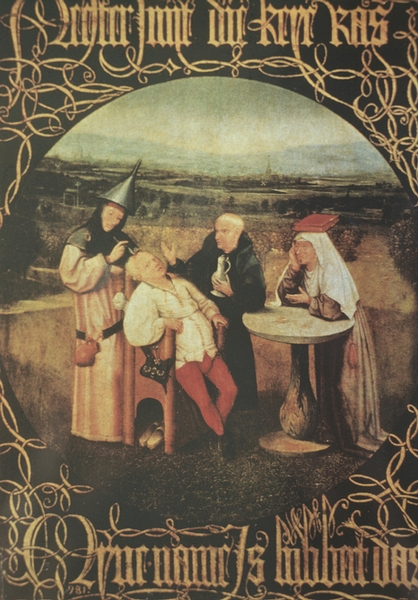
Операция глупости. И. Босх (около 1450—1516).
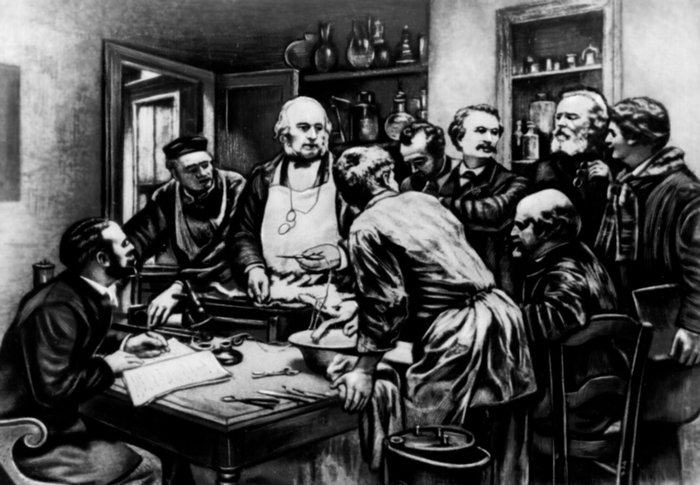
Клод Бернар со своими учениками.
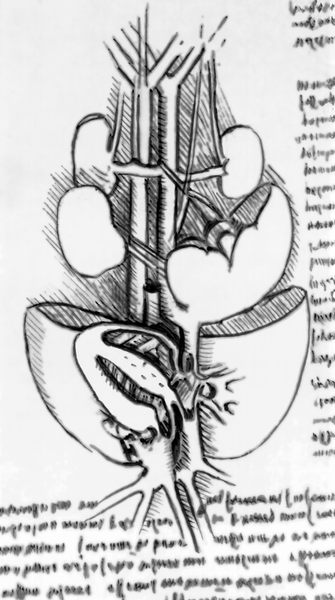
Рис. 3. Анатомический рисунок Леонардо да Винчи — сердце, легкие и сосуды брюшной полости.

Людвиг Траубе.
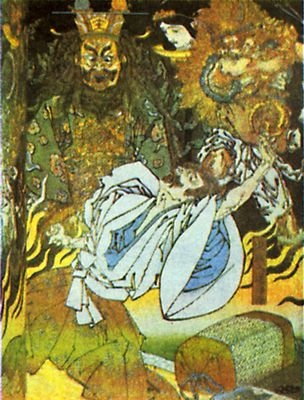
С картины японского художника начала 19 в.
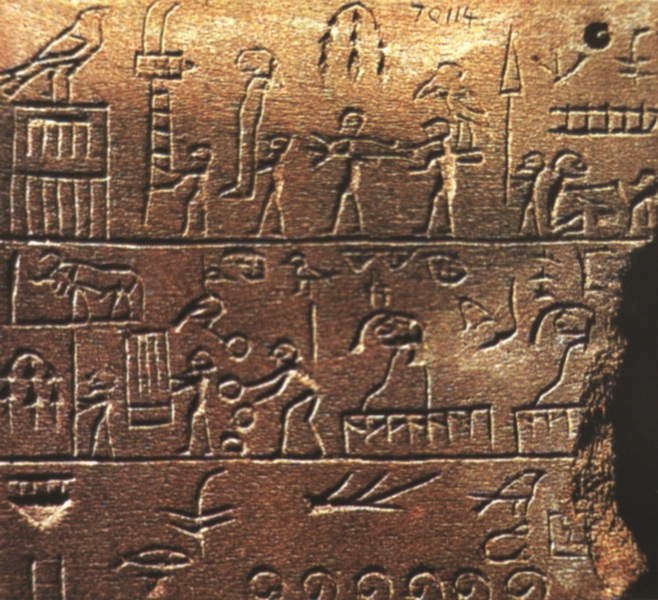
Посвятительная надпись на каменной табличке. Шумер (Аккад). XXV в. до н. э.

Е.О. Мухин.
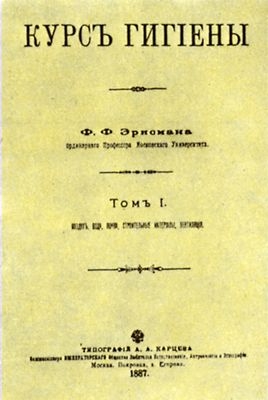
Титульный лист «Курс гигиены» Ф.Ф. Эрисмана. Том I, Москва, 1887 г.
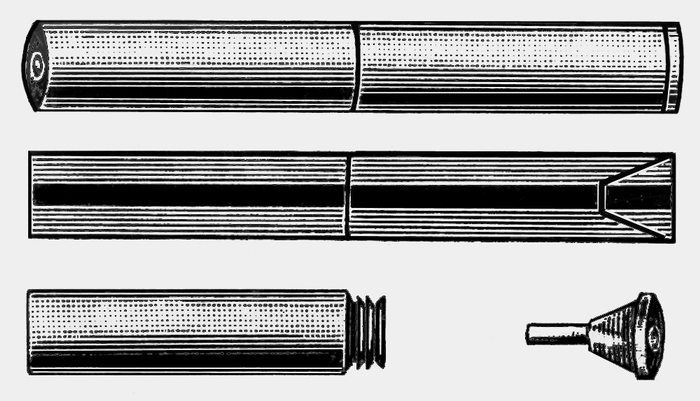
Рисунок стетоскопа Лаэннека из его книги «De l'auscultation mediate», 1819.
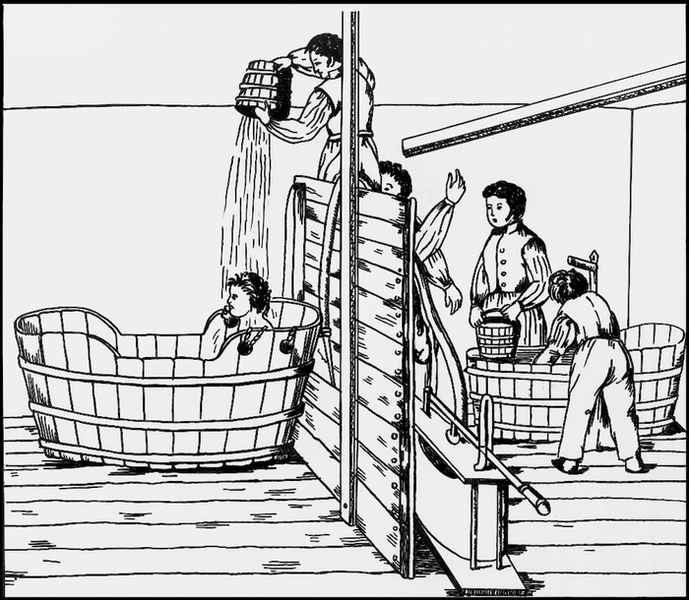
Методы «лечения» душевнобольного, применявшиеся до реформ в психиатрии Ф. Пинеля.
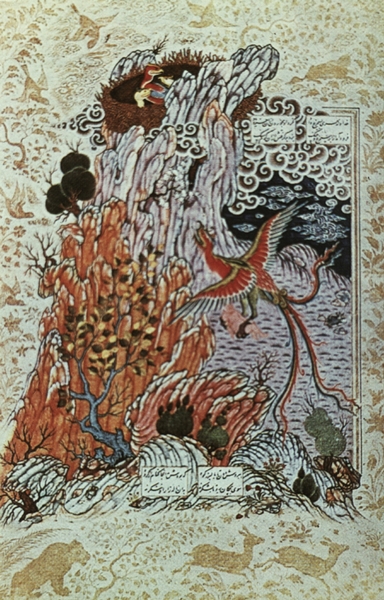
Повелитель бесов Пань-гуань. Китайская лубочная картина XIX в.

Академик Л.А. Зильбер в лаборатории.
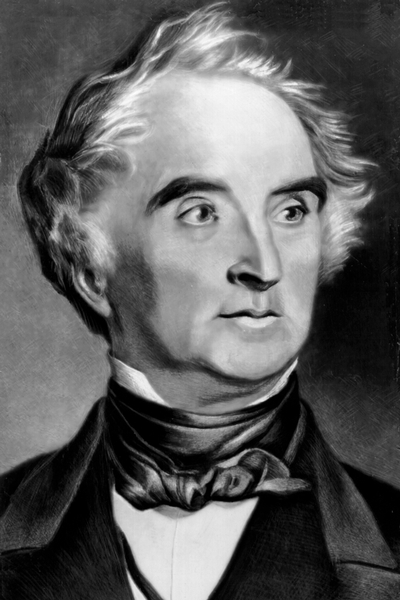
Юстас Либих.
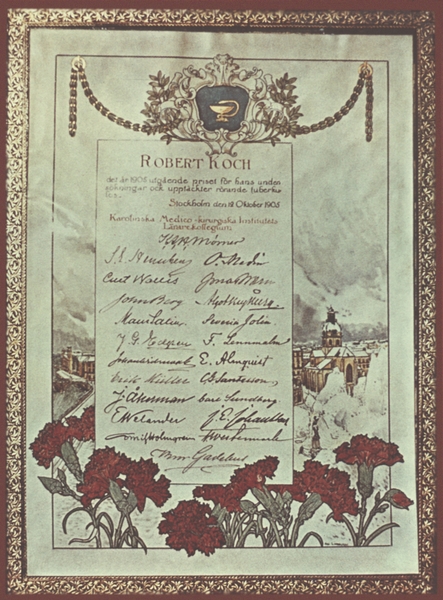
Диплом Нобелевского лауреата Р. Коха.
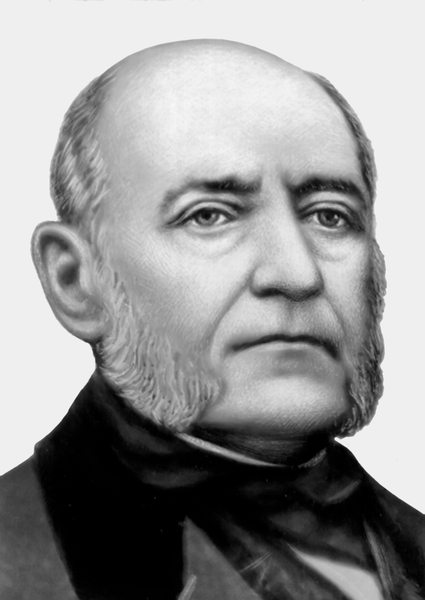
Карл Рокитанский.

Анубис, извлекающий сердце умершего, чтобы взвесить его на суде Осириса. Фрагмент росписи из гробницы Сеннеджема в Фивах. XIII в. до н. э.
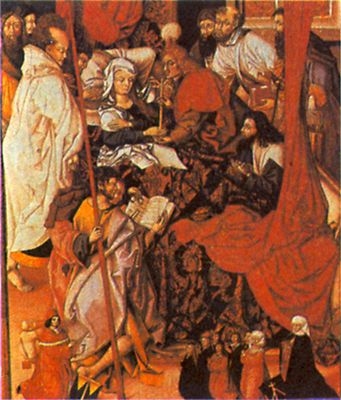
«У постели больной». Средневековая миниатюра.

Памятник С.П. Боткину перед зданием Боткинской клиники Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.
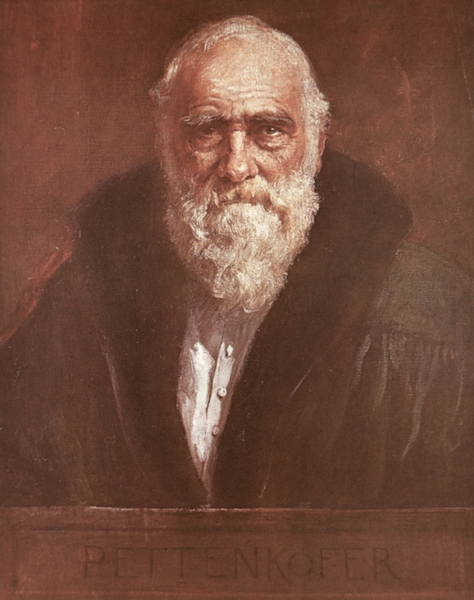
Макс фон Петтенкофер.
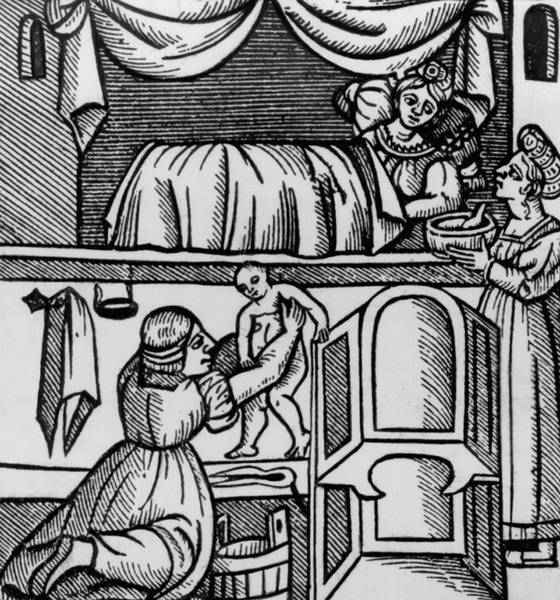
Женщина-акушерка принимает роды. Средневековая миниатюра. XII в.

Академики В.В. Парин, П.К. Анохин, профессора Дж. Гент (США) и Жоан Бурза (Бразилия).
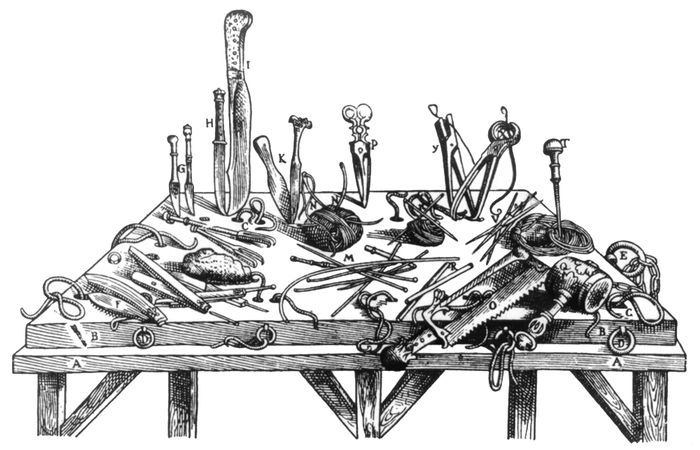
Стол с инструментами А. Везалия. Рисунок из трактата «О строении человеческого тела» А. Везалия, Базель, 1543 г.

Демон «Холера».
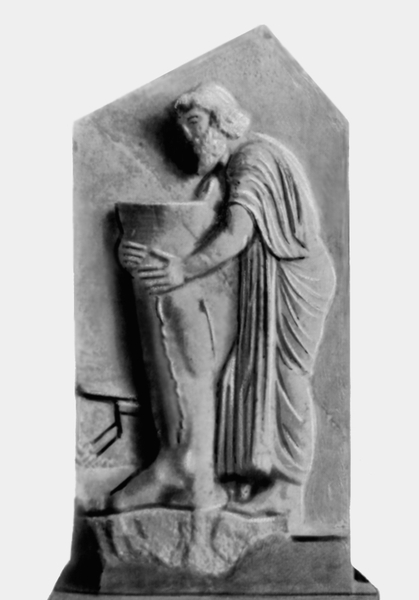
Древнегреческий барельеф с изображением больного, просящего исцелить его ногу. Асклепейон в Афинах.

Памятная бронзовая медаль, посвященная выдающемуся русскому терапевту Г.А. Захарьину.
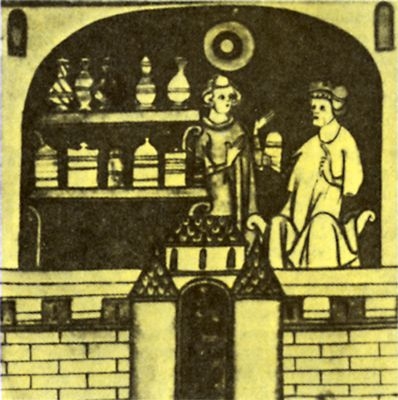
Средневековая аптека. Салерно. 13 в.

«В приемной доктора». Репродукция с картины В.Е. Маковского.
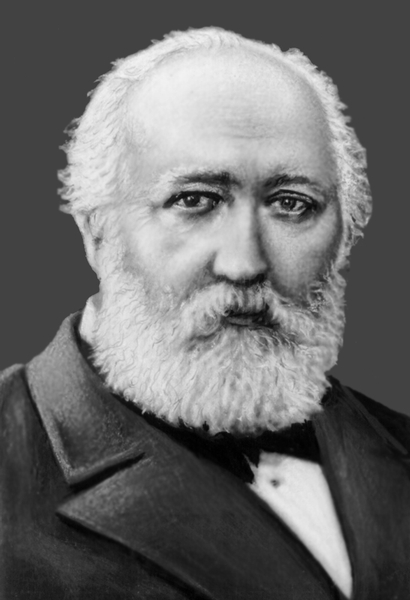
Ф.В. Овсянников.
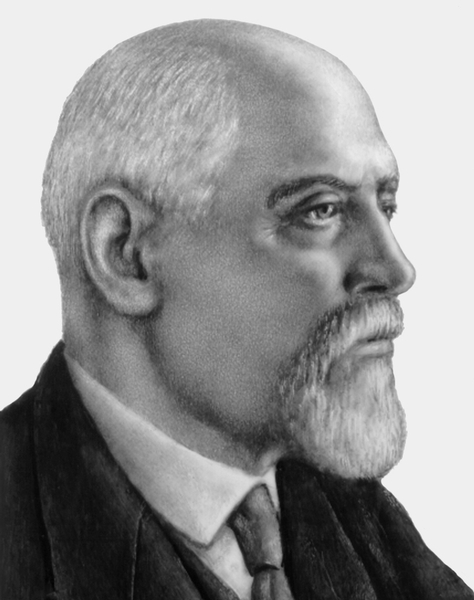
М.П. Кончаловский.

Обуховская больница (г. Санкт-Петербург).
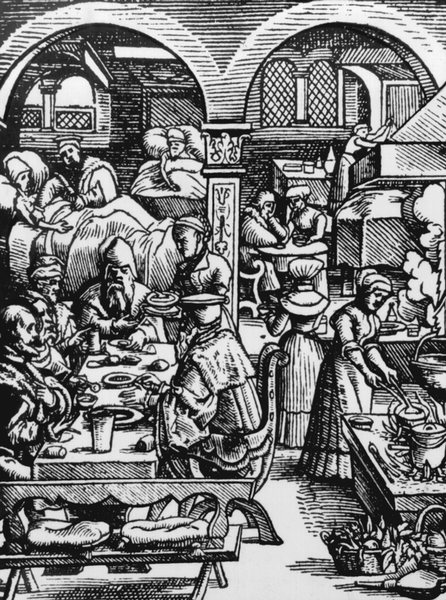
Салернская больница. XII в.
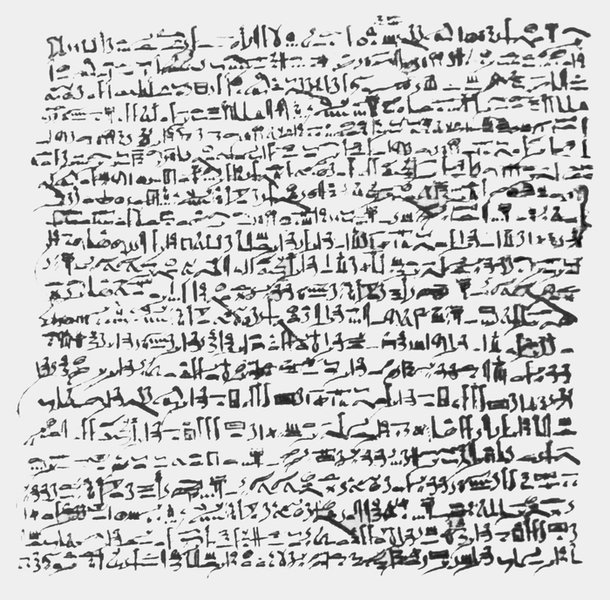
Фрагмент папируса Э. Смита.
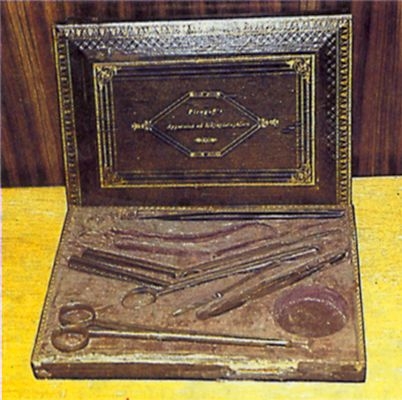
Укладка инструментов Н.И. Пирогова.
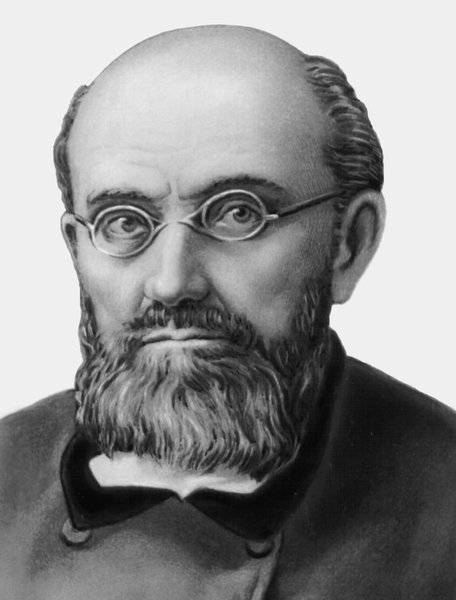
Г.А. Захарьин.

Фигурки богини-матери Мохендро-даро. Индия, 3-е тысячелетие до н. э.
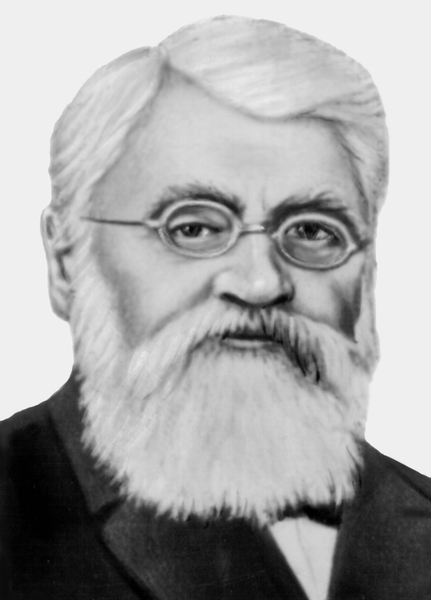
А.Я. Кожевников.

«Вправление вывиха». Рисунок из «Сборника Гиппократа».

Бюст И.М. Сеченова в Москве.

К.А. Раухфус.

Всесоюзный научный центр хирургии.
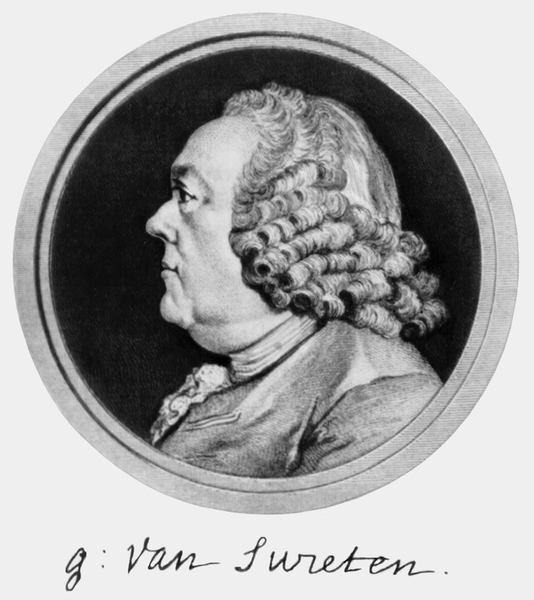
Герхард Ван-Свитен.

«Урок анатомии».

Древнегреческий барельеф с изображением Гигейи и Асклепия.

Древнеегипетская мумия со следами болезни на лице.

Странствующий хирург.

Эдвард Дженнер.
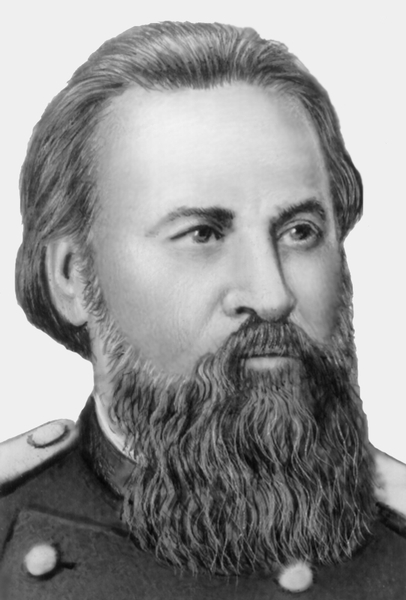
А.П. Доброславин.
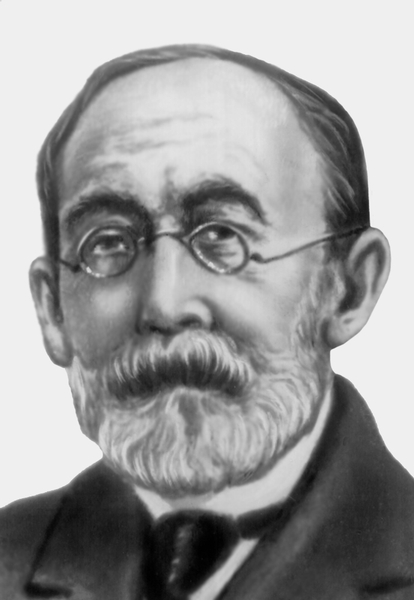
Рудольф Вирхов.
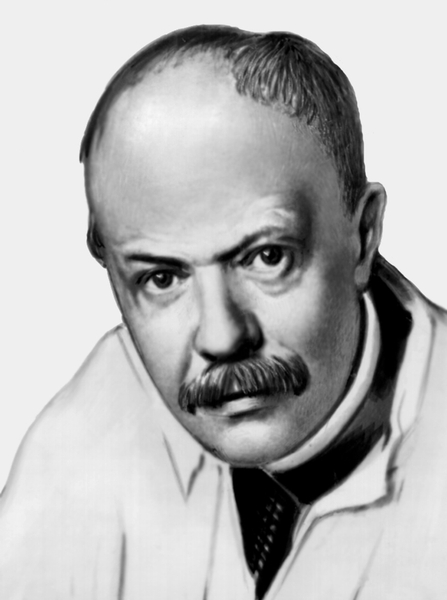
Шарль Никколь.

Вавилонский амулет для изгнания болезней.

Мандрагора. Средневековая миниатюра.

Один из древнеиндийских вариантов древа жизни: Майя, мать Будды, стоящая на раскрытом цветке лотоса и дарующая ветвь священного дерева ашока, под которым был рожден Будда.
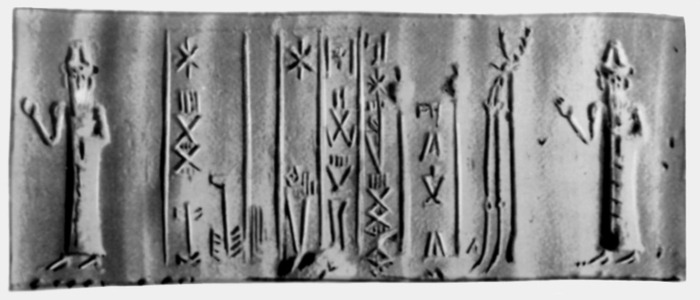
Вавилонская глиняная табличка с медицинским текстом и изображениями врачей.
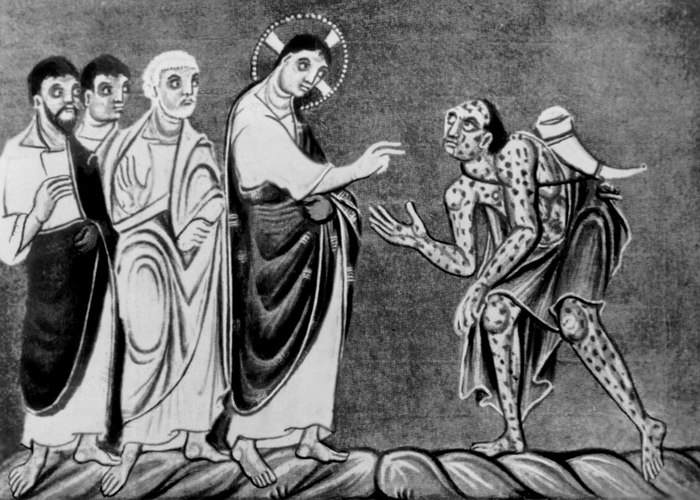
Иисус Христос с учениками и прокаженным; на спине прокаженного рожок, которым он предупреждает о своем появлении. Средневековая миниатюра.

Всесоюзный кардиологический научный центр.
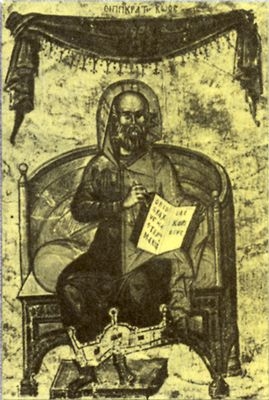
Гиппократ. Фрагмент византийской фрески. 14 в.

Томас Сиденгам.

Здание института социальной гигиены и организации здравоохранения им. Н.А. Семашко.
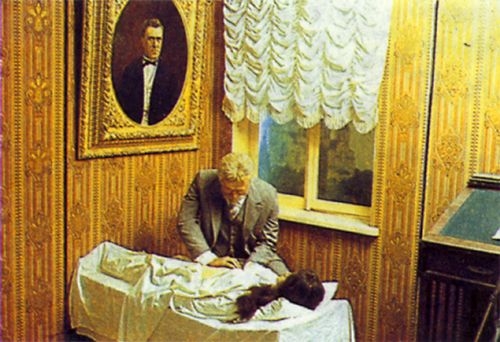
В.П. Образцов за осмотром больной.
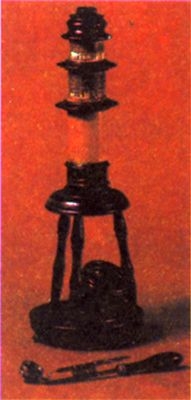
Микроскоп Левенгука.

К.М. Бэр.
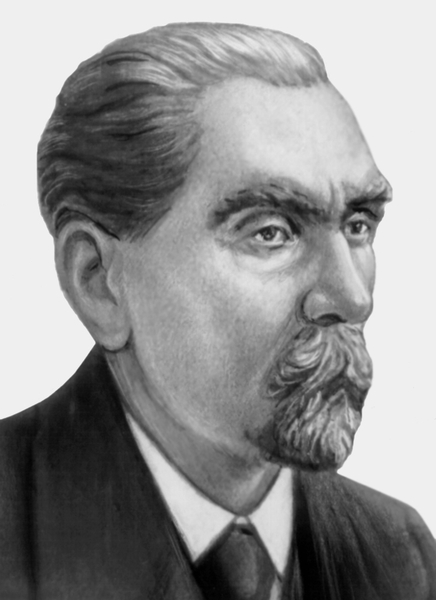
А.Б. Фохт.

Препарат Рюйша в Анатомическом музее Военно-медицинской академии.

Памятник Я.В. Виллие в Санкт-Петербурге.

Джованни Батиста Морганьи.

Иозеф Шкода.
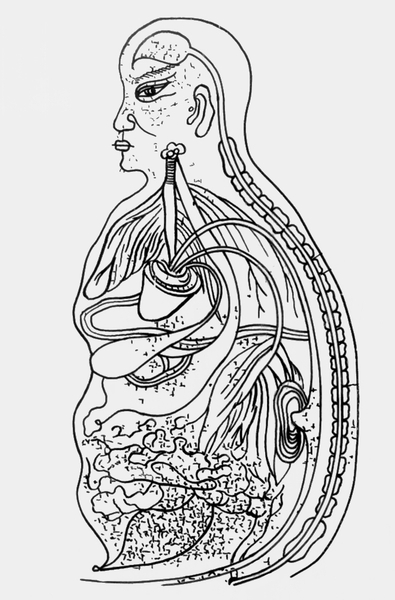
Анатомический рисунок из древнекитайской медицинской книги.

Карл фон Базедов.
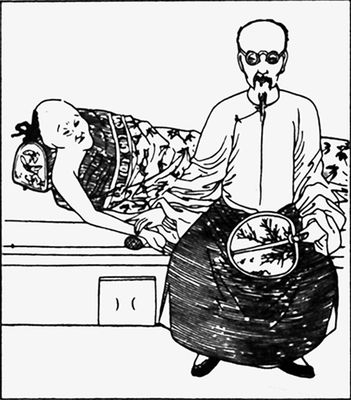
Древнекитайский врач, исследующий пульс больного. Китайская миниатюра.

Рожающая богиня и двое охраняющих ее животных. Чатал-Хююк около 5750 г. до н. э.

Х.И. Лодер.

Бюст Ф.Ф. Эрисмана в Москве.
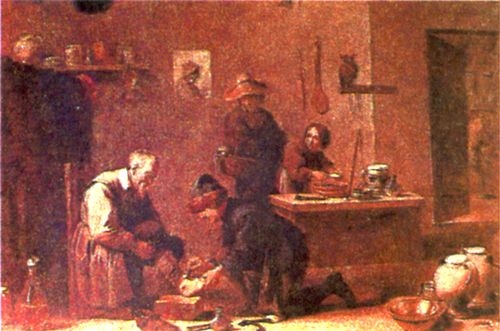
Операция цирюльника.

Изгнание духов. Репродукция со средневековой миниатюры.

Здание АМН СССР.
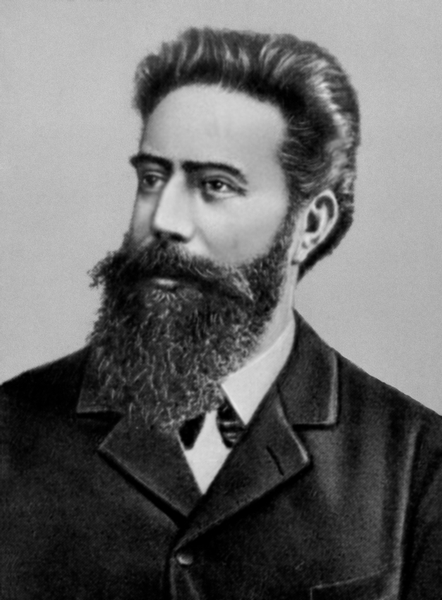
Вильгельм Рентген.
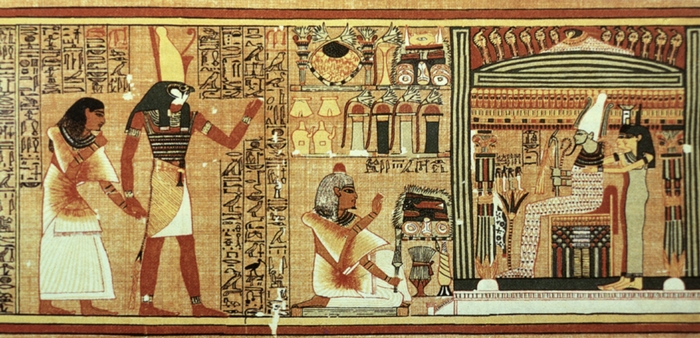
Гор ведет умершего к трону Осириса. Перед Осирисом — лотос с четырьмя сыновьями Гора, за ним — Исида и Нефтида. Рисунок из книги «Книги мертвых» Ани. Около 1450 г. до н. э.

Здание Будапештского музея истории медицины имени И. Земмельвейса «Галлюцинации».

Глиняная модель печени, разделенная на дольки. Вавилон.

I Градская больница (г. Москва).

Заупокойный храм Хатшепсут в Дейр-эль Бахри. XVIII династия.

Джон Браун.

Мемориальный кабинет В.А. Оппеля.
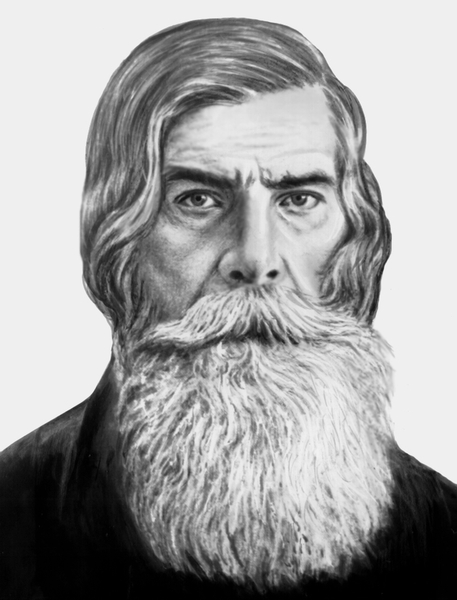
В.М. Бехтерев.

Ба (воплощение жизненной силы людей) парит над телом умершего. Рисунок из древнеегипетской рукописи.
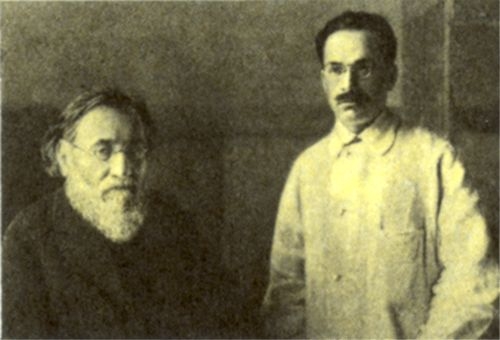
И.И. Мечников и А.М. Безредка.
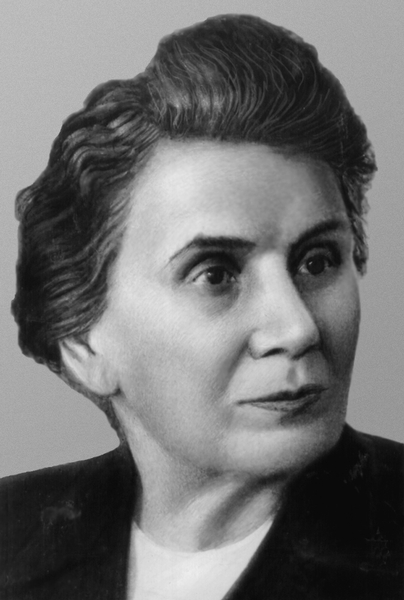
О.Н. Подвысоцкая.

Бюст С.И. Спасокукоцкого в Москве.

Памятник С.С. Корсакову в Москве.
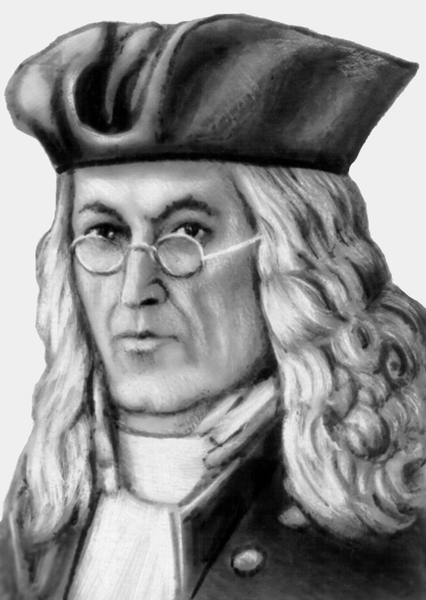
Николай Бидлоо.

Портрет С.П. Боткина работы И. Крамского.

Бюст Н.И. Пирогова в Москве.
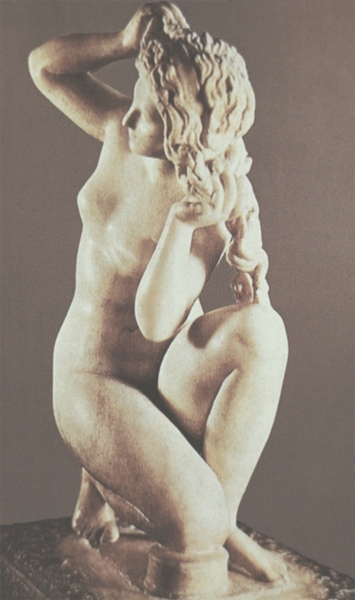
Статуэтка Афродиты с острова Родос. II в. до н. э.
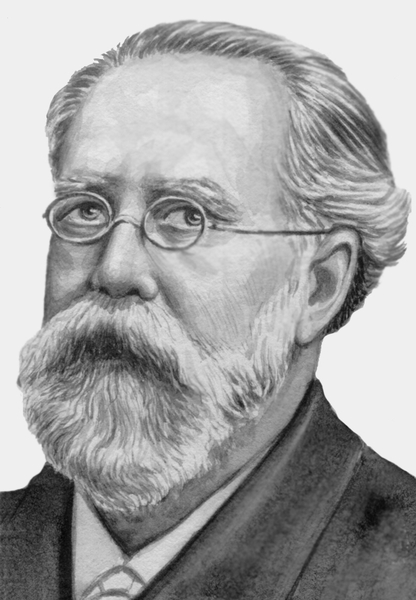
Д.Н. Зернов.
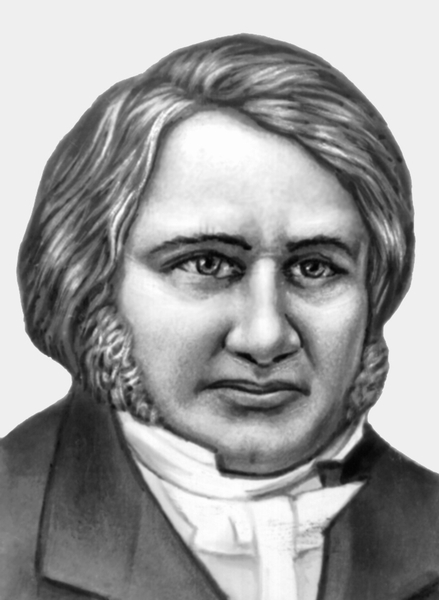
Джеймс Симпсон.
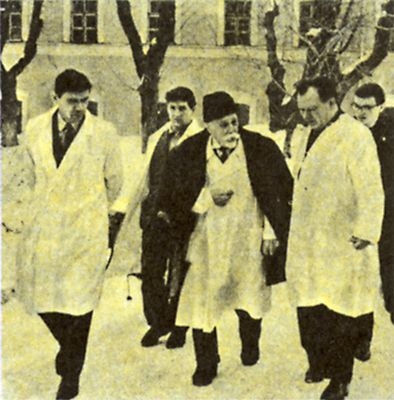
Академик Г.Н. Сперанский среди учеников.

Будда Амитава (в центре) в окружении придержащих. Китай. Династия Вей (385—550 гг. н. э.).

Бюст В.В. Пашутина.

Исследование пульса и мочи.

Якутский шаман. Снимок начала XX в.

Иоганн Мюллер.

Главное здание Военно-медицинской академии.
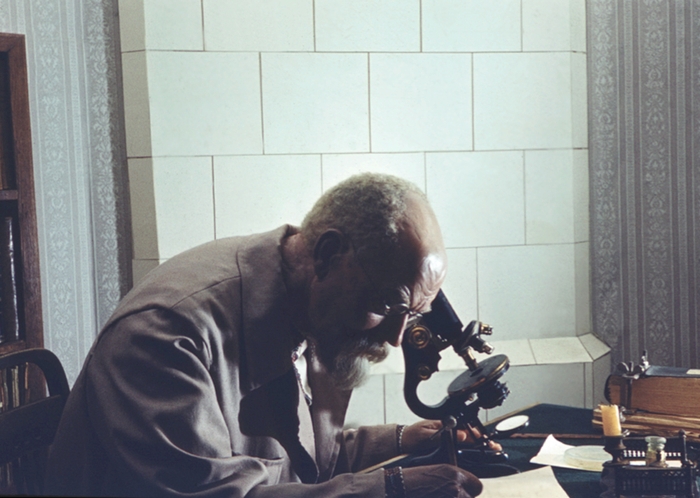
Академик Д.К. Заболотный в лаборатории.
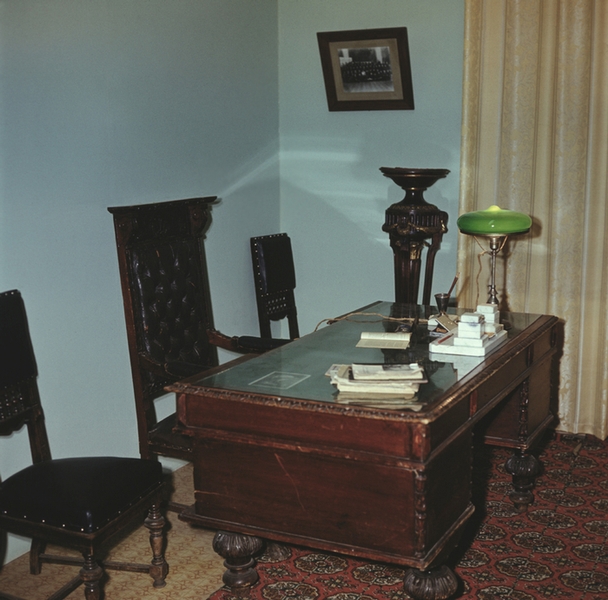
Мемориальный кабинет Н.А. Семашко в Москве.

Богиня со змеями из Кносса. XVI в. до н. э.

Александровская больница (г. Санкт-Петербург).

Серебряная чаша с изображением ритуальной сцены. Триалети (территория современной Грузии). 2000—1500 лет до н. э.
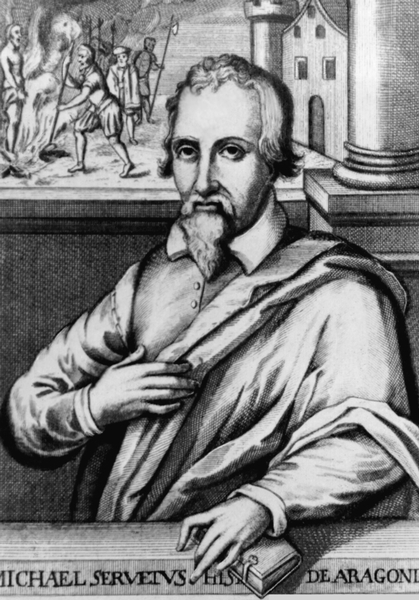
Мигель Сервет.

Древнекитайский врач Хун То (II в. н. э.).

Рене Лаэннек.

Яо-ван — покровитель медицины в Древнем Китае. Лубочная картина конца XIX в.

Д.К. Каменецкий.
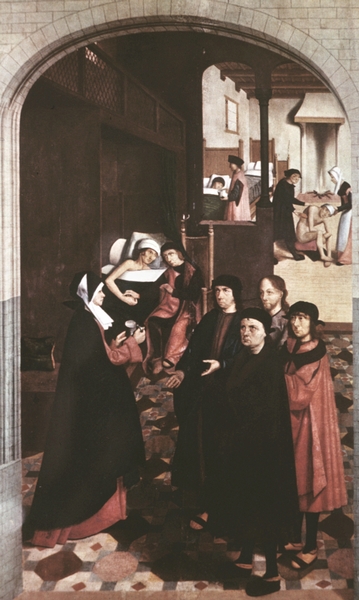
Средневековая больница. Алькмаар. 1504. Амстердам.

Портрет хирурга С.С. Юдина работы М. В. Нестерова. 1935 г.

Мемориальный музей И.П. Павлова в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

Игнац Земмельвейс.
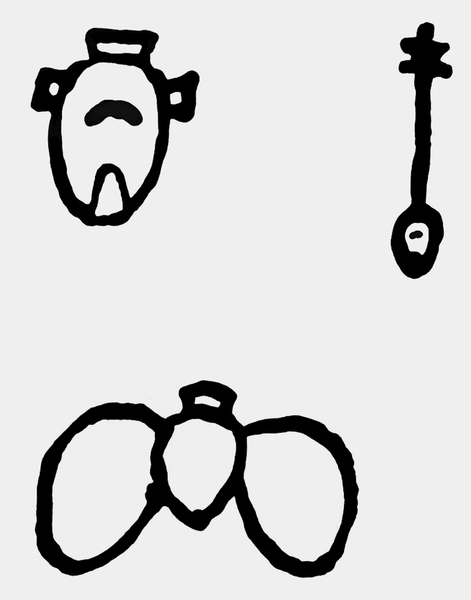
Изображение сердца и органов средостения (слева вверху и внизу) и иероглиф, обозначающий эти органы. Из древнеегипетских рукописей.

Памятник Н.А. Семашко в Москве.

Памятник А.И. Абрикосову в Москве.
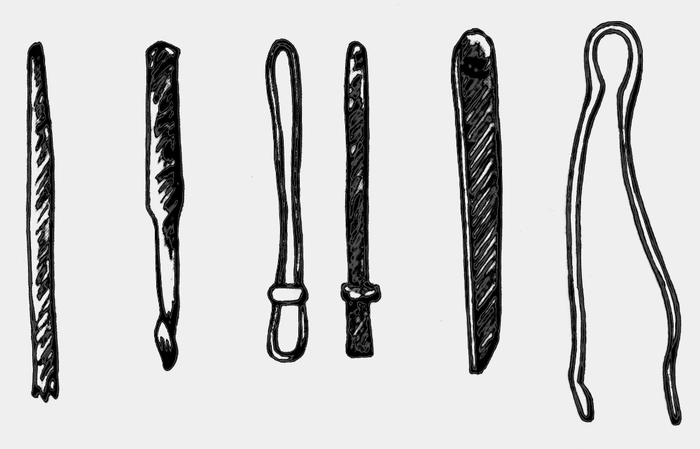
Сверла, зубила и пинцеты, используемые в хирургической практике славян в 12—13 вв.
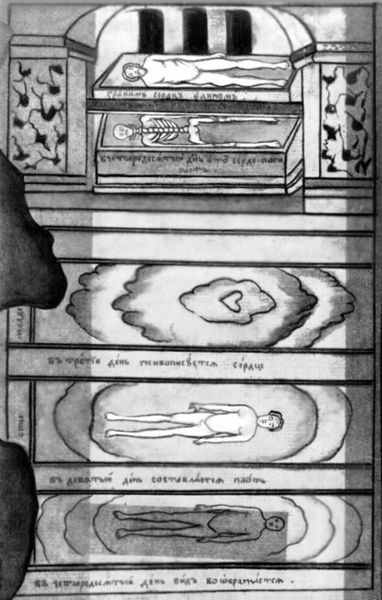
Представления о жизненном цикле человека (формирование сердца, развитие тела, смерть человека). Миниатюра из рукописи Киевского великокняжеского периода.

Редкие издания, хранящиеся в библиотеке Военно-медицинской академии.
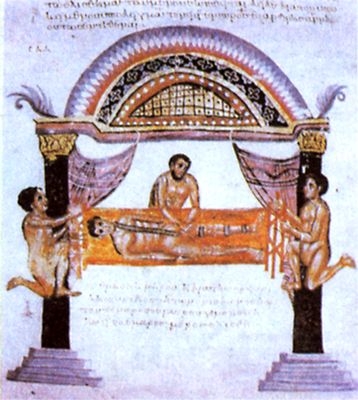
«Иммобилизация». Рисунок из «Сборника Гиппократа».

Памятник М. Биша работы Давида.

Портрет академика И.П. Павлова работы М.В. Нестерова.
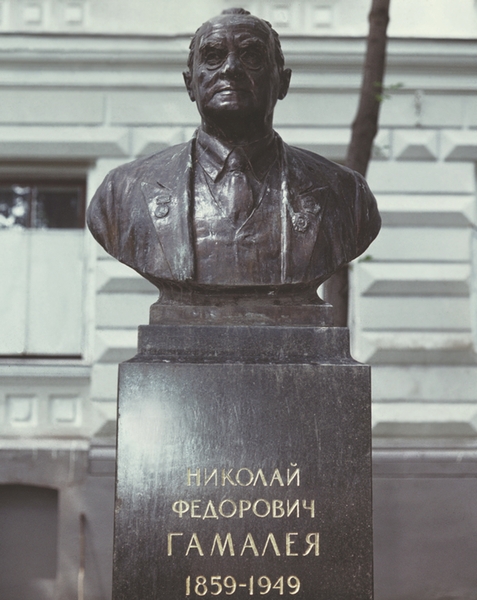
Памятник Н.Ф. Гамалее в Москве.
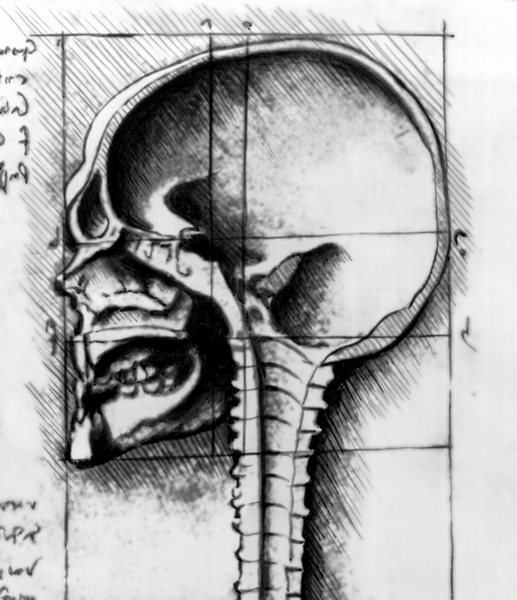
Рис. 2. Анатомический рисунок Леонардо да Винчи — саггитальный распил черепа и позвоночного столба.
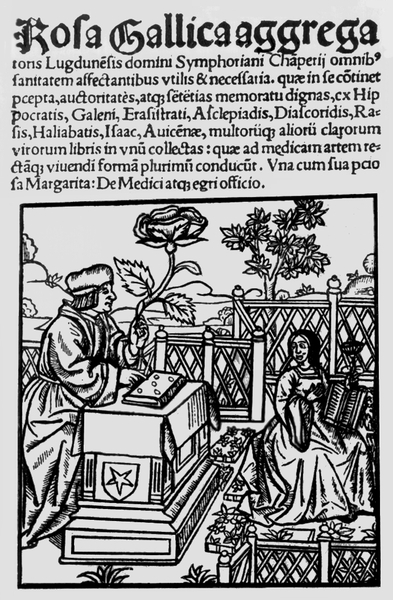
Врач, объясняющий предназначение лекарственного растения. Средневековая миниатюра. XIV в.
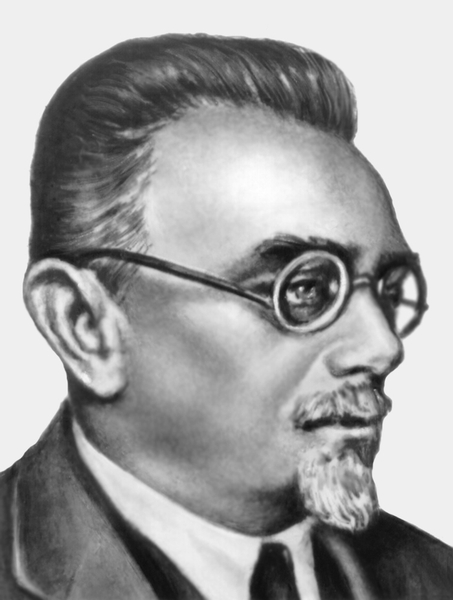
Н.Д. Стражеско.

Н.Е. Введенский (слева) и А.А. Ухтомский.
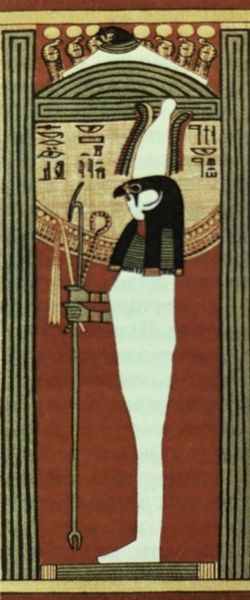
Осирис — Секар (бог плодородия и покровитель мертвых). Рисунок из «Книги мертвых» Ани. Около 1450 г. до н. э.

Статуэтка. «Старик, собирающий лекарственные травы».

Бедренная кость питекантропа с выраженной патологией костной ткани.

Древнеегипетские амулеты. Из коллекции музея им. И. Земмельвейса.
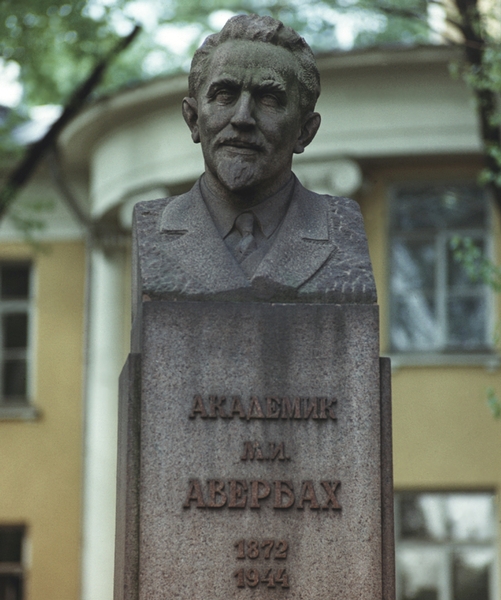
Бюст М.И. Авербаха в Москве.

Орлиноголовое божество из дворца в Кальху Ассирия. IX в. до н. э.
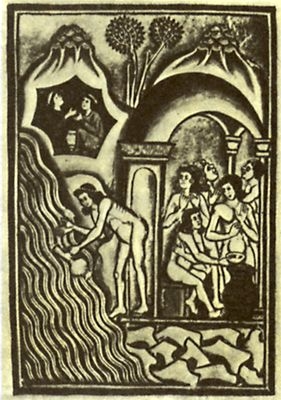
Лечение минеральной водой. Рисунок из средневекового трактата «О целебных водах». 14 в.
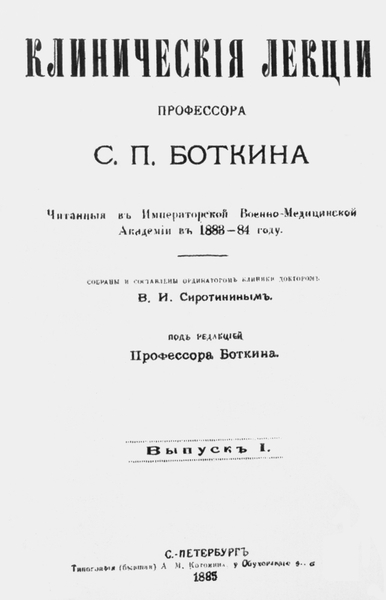
Титульный лист «Клинических лекций» С.П. Боткина. Санкт-Петербург, 1885 г.
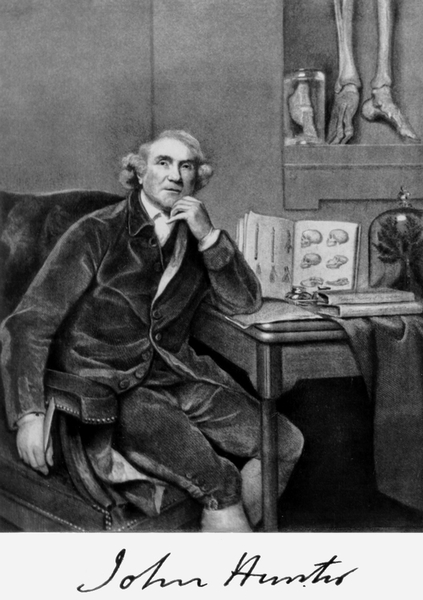
Джон Гунтер.
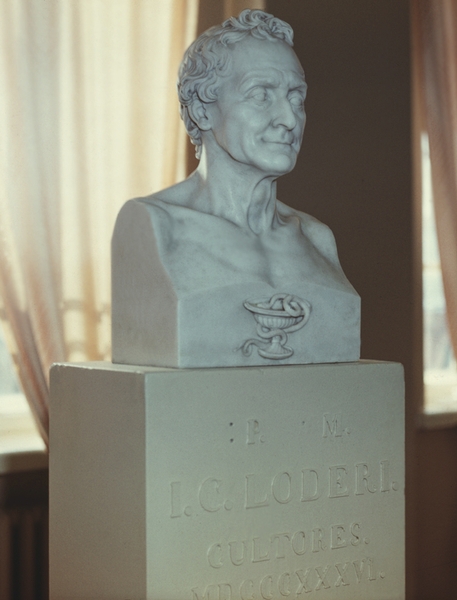
Бюст Х.И. Лодера в Москве.
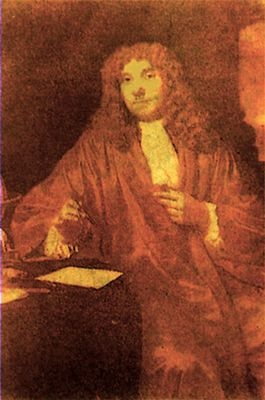
Антони Левенгук.

Медуза Горгона. Раскрашенный терракотовый рельеф из храма Афины в Сиракузах. 2-я половина VII в. до н. э.
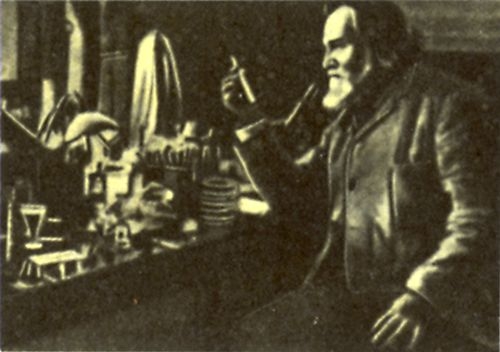
И.М. Мечников в своей лаборатории в Пастеровском институте.
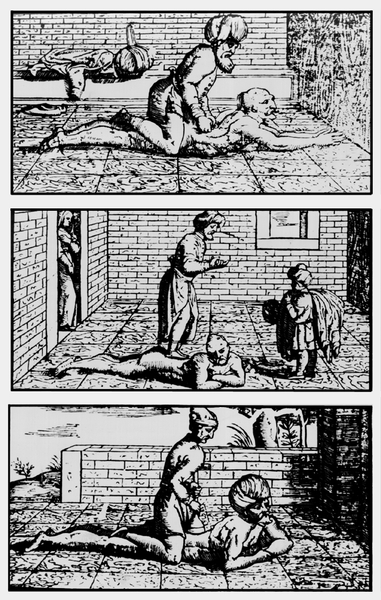
Средневековая миниатюра с изображением лечебных приемов, предложенных Ибн Синой.

А.Д. Сперанский.
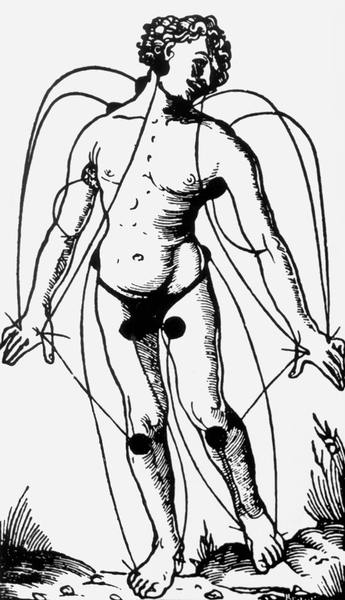
Схематическое изображение человека с точками пережатия сосудов при кровотечении. Рисунок из «Regine contre la pestilebce par les Medicine de Basle», Лион, 1519 г.

Коптские кресты. Надгробный камень. IV в. н. э.
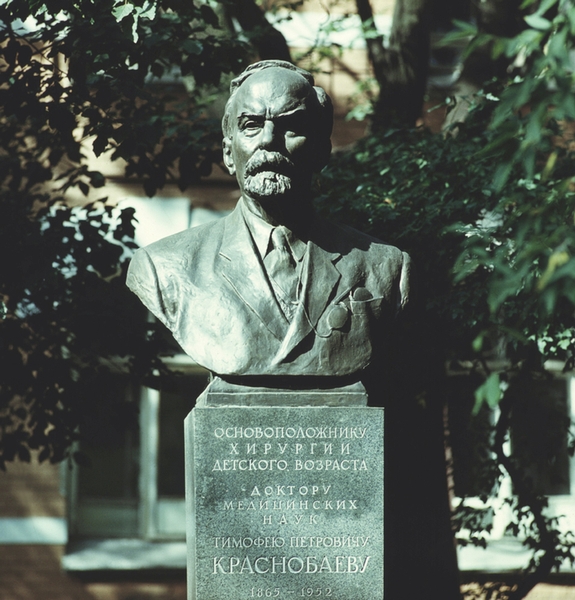
Бюст Т.П. Краснобаева.
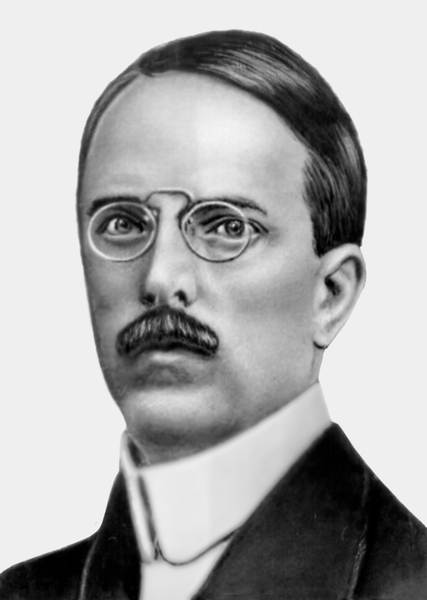
Клементс Пирке.
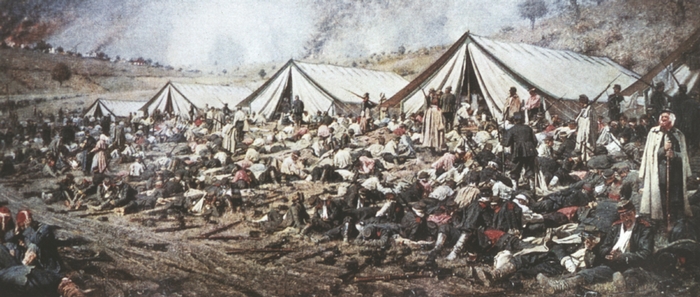
Картина В.В. Верещагина «После атаки» (перевязочный пункт под Плевной). 1881 г.

Медицинская сестра госпиталя Св. Джона в Иерусалиме. Средневековая миниатюра.
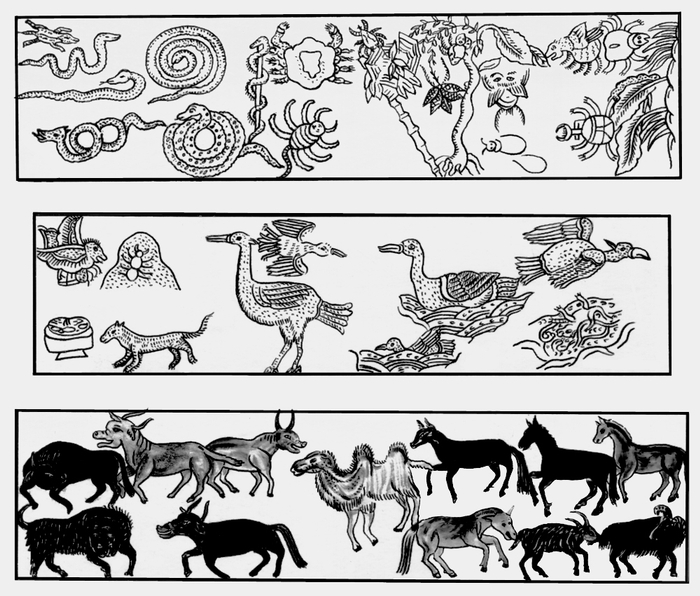
Растения и животные, используемые в лечебных целях. Древнетибетские миниатюры.
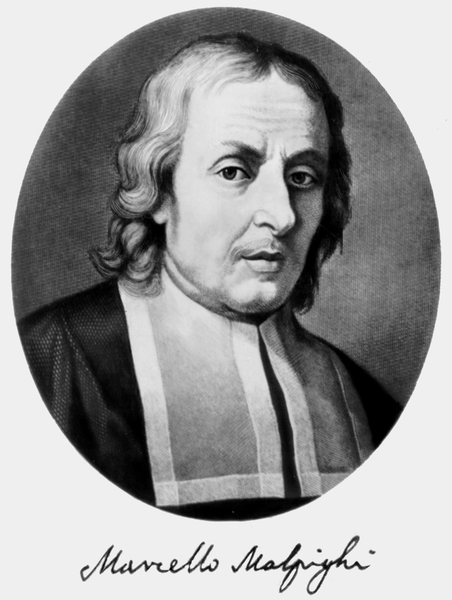
Марчелло Мальпиги.
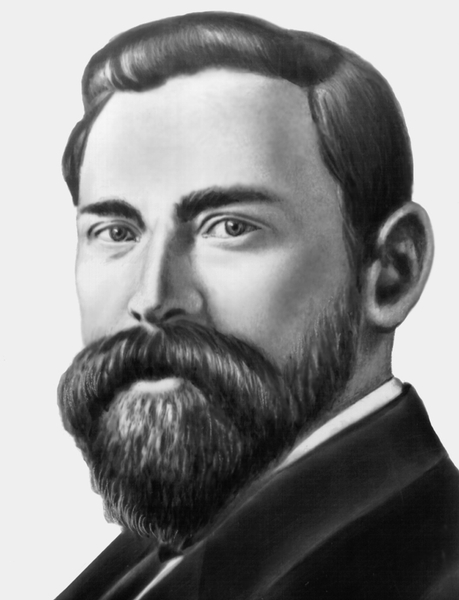
И.И. Греков.

I Градская больница (г. Москва).

Этрусский антефикс с изображением головы Медузы Горгоны. Конец VI в. до н. э.
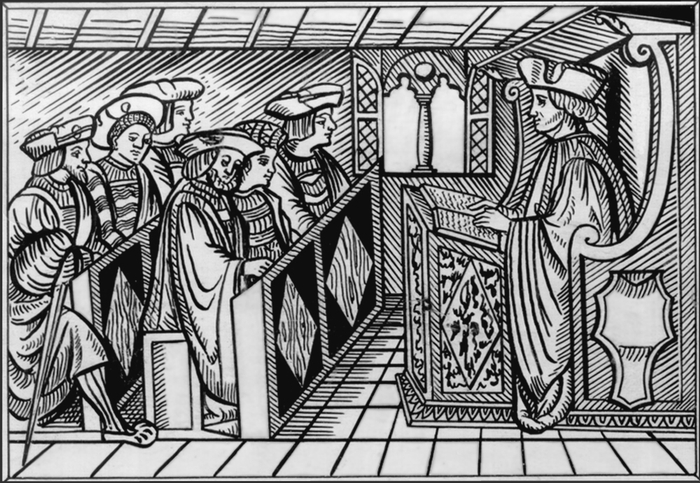
Лечение минеральной водой. Рисунок из средневекового трактата «О целебных водах». XIV в.
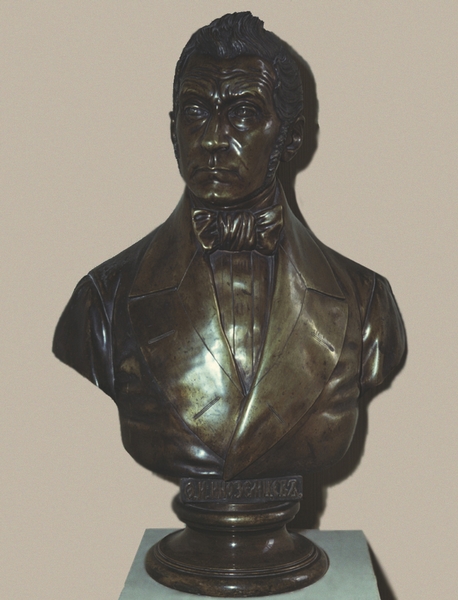
Бюст Ф.И. Иноземцева на кафедре истории медицины Московской медицинской академии.

В.Ф. Снегирев.

Иоганн Шенлейн.
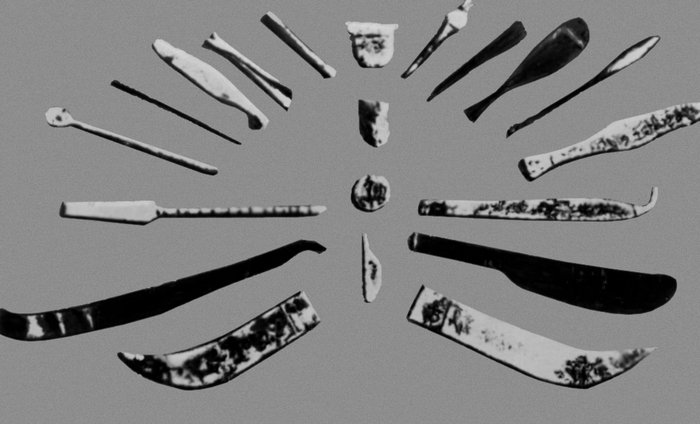
Древнеегипетские хирургические инструменты.

Приход врача. Ван-Мериес. Музей истории искусства. Вена.
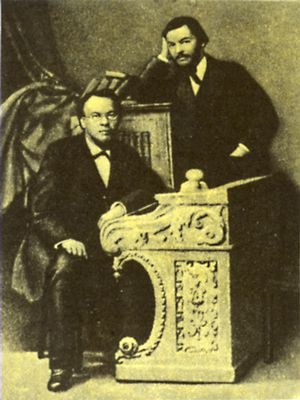
С.П. Боткин (сидит) и И.М. Сеченов.

Памятник Н.Ф. Филатову в Москве.
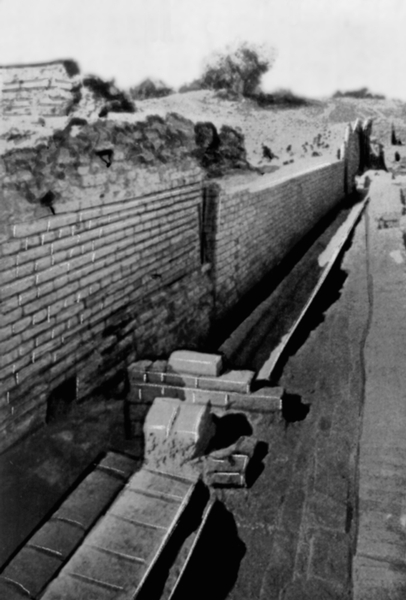
Развалины канализации в Мохендро-даро. Индия. 3-е тысячелетие до н. э.

Голова богини Гигейи. Около середины IV в. до н. э.

Древо жизни и смерти. Миниатюра Бертольда Фуртмейра. 1481.

Прижигание раны. Средневековая гравюра.
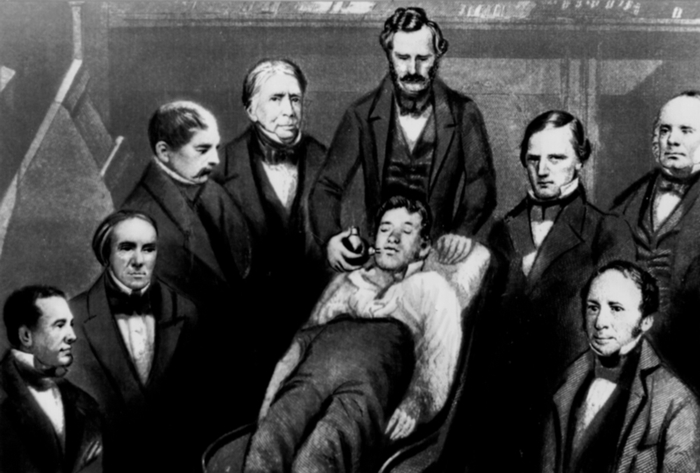
В. Мортон при демонстрации своего метода наркоза.

Памятная бронзовая медаль, посвященная Р. Вирхову.
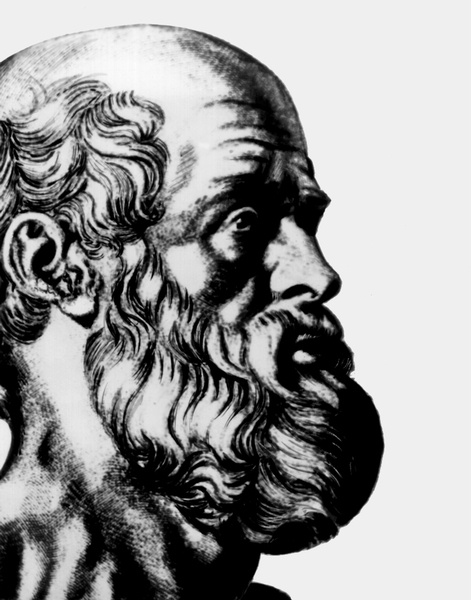
Гиппократ.
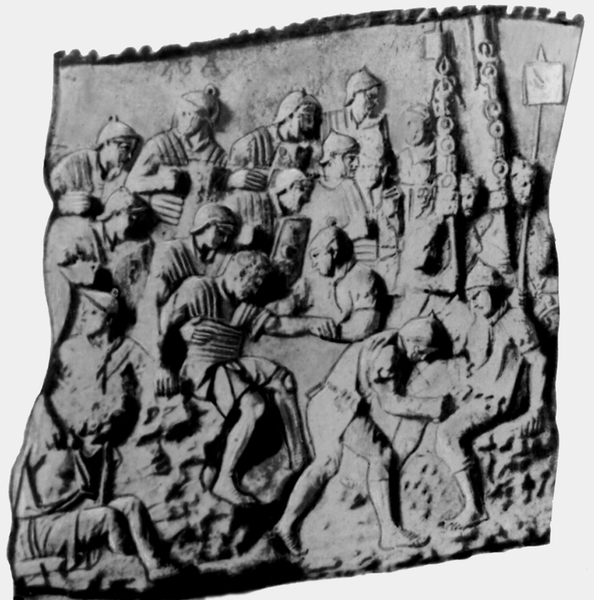
Древнеримский барельеф с изображением хирургов, оказывающих помощь воинам.

Тибетский шаман.
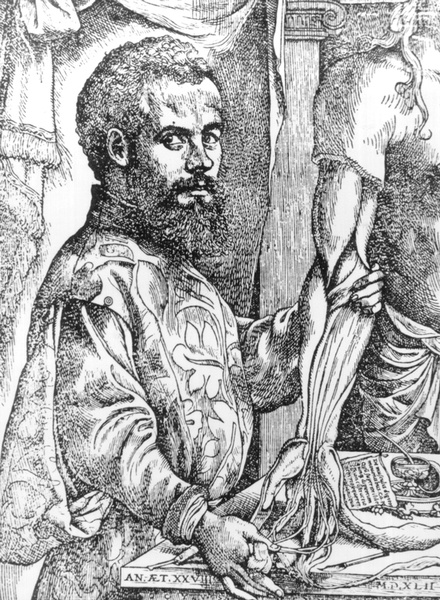
А. Везалий.

Шоу-син — божество долголетия в Древнем Китае. Камень. Начало XIX в.

Древнеегипетские изображения больных органов.
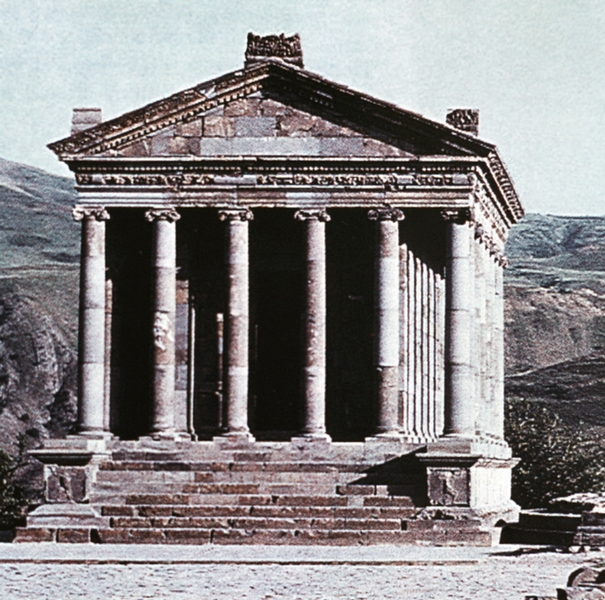
Языческий храм Гарни (расположен на территории вблизи современного Еревана). 1—2 вв. н. э.
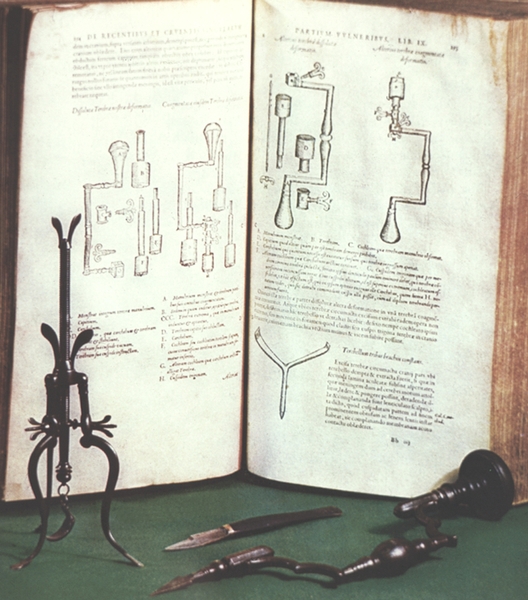
Набор инструментов А. Паре и их описание в его труде.
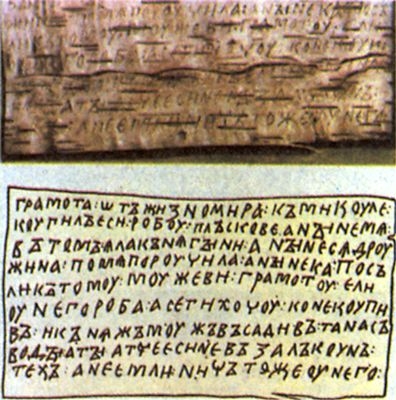
Медицинский текст на бересте. Киевская Русь.

Фрагмент средневековой фрески, изображающий врача, предлагающего больному целебный отвар.
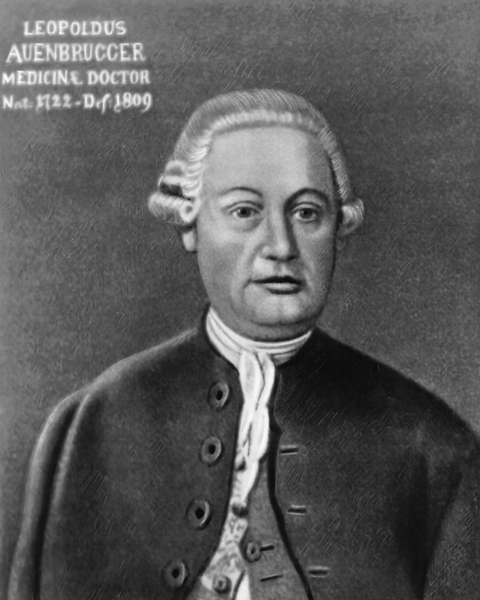
Леопольд Ауэнбруггер.
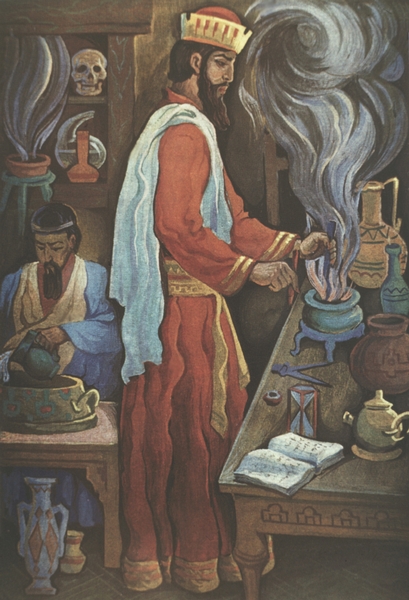
Алхимик. Иллюстрация к книге Н.М. Маджидава и В.Д. Гордеевой «Неврологические воззрения. Абу Али Ибн Сины».

Памятник И.В. Давыдовскому в Москве.
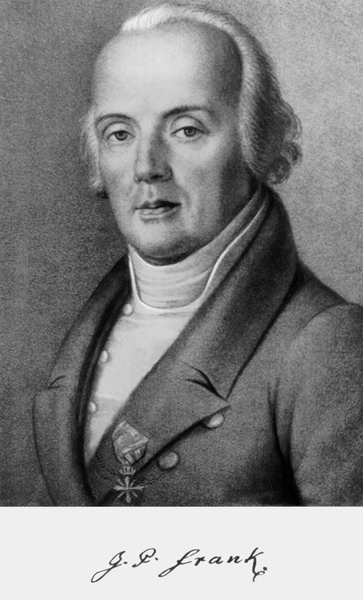
Иоган Петер Франк.
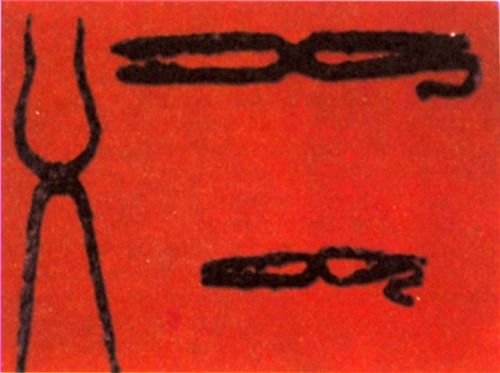
Древнеримские хирургические инструменты.
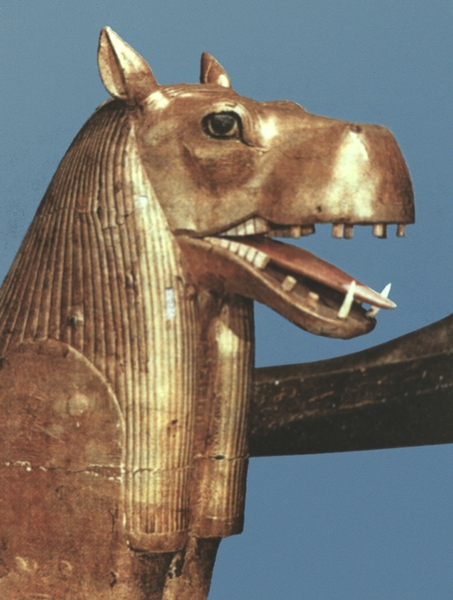
Таурт — покровительница женщин и детей в Древнем Египте.

Средневековые хирургические инструменты.

Врач. Е.И. Фидлер. Середина XVIII в.

Умерший, Осирис и Анубис. Погребальная пелена. Середина II в. н. э.

Тара — богиня милосердия. Статуэтка 16—17 вв.
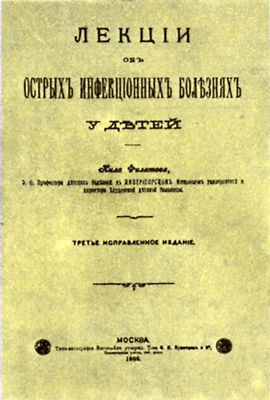
Титульный лист «Лекций об острых инфекционных болезнях у детей» Н.Ф. Филатова, Москва, 1895 г.

Кесарево сечение. Средневековая миниатюра.

Диплом Нобелевского лауреата Р. Коха.
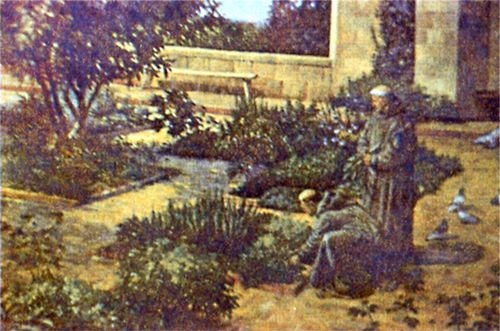
Монастырский сад лекарственных растений.

Уильям Гарвей.

Аналийский идол («Древняя Венера»). Середина 6-го тысячелетия до н. э.

Обожествленный в качестве покровителя медиков и аптекарей древнекитайский врач Бянь Цяо (в виде человекоптицы) лечит больного. Рельеф на камне. Рубеж нашей эры.

Врач. Г. Доу. Венский музей истории искусства.
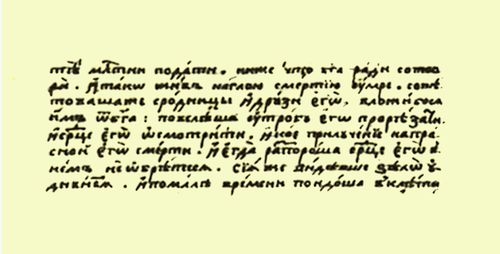
Страница древнерусской повести «Великое зерцало», в которой развивается идея о необходимости анатомического вскрытия трупа человека для «узнавания» причины смерти.
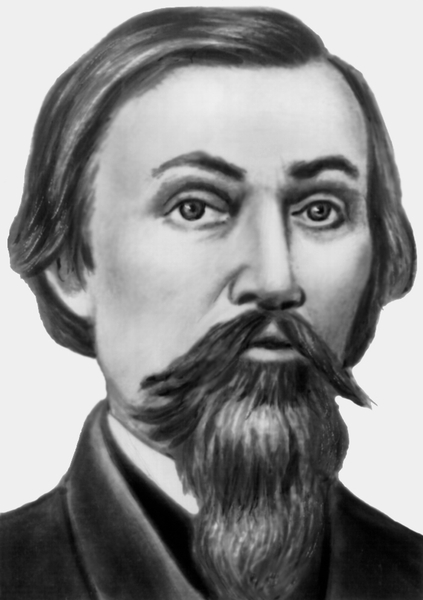
А.И. Бабухин.

Больница «Медсантруд» (г. Москва).

Лечение больного музыкой: прием грузинской народной медицины.
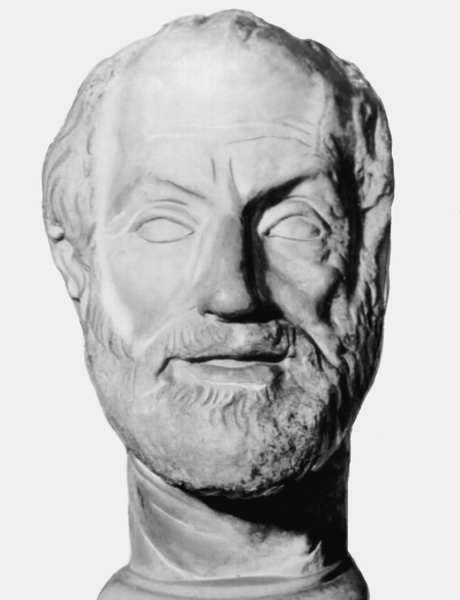
Аристотель.

Памятник М.В. Ломоносову перед зданием Московского университета.
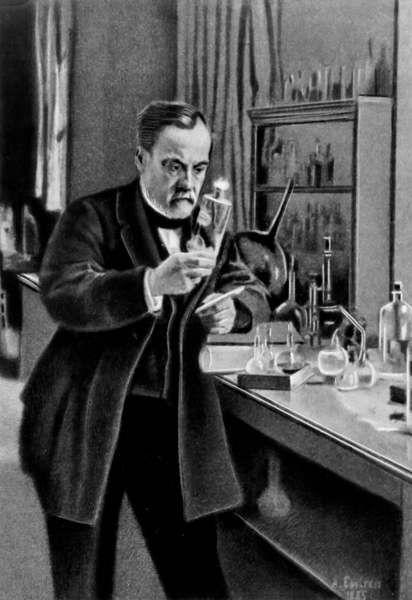
Луи Пастер в лаборатории. Репродукция картины Эдельфельта.

Препарат Рюйша в Анатомическом музее Военно-медицинской академии.
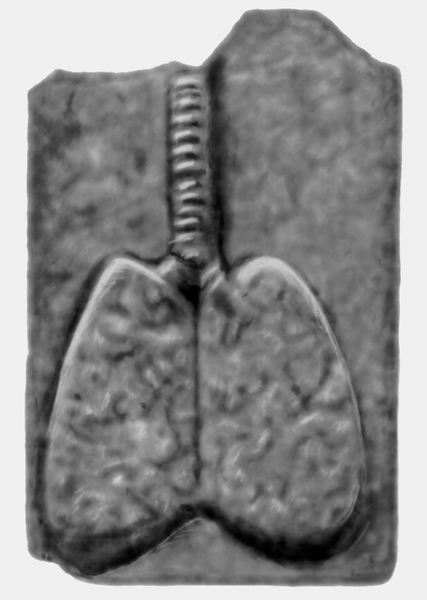
Древнегреческий терракотовый барельеф с изображением легких и трахеи.

Древнеегипетский медицинский инструментарий.
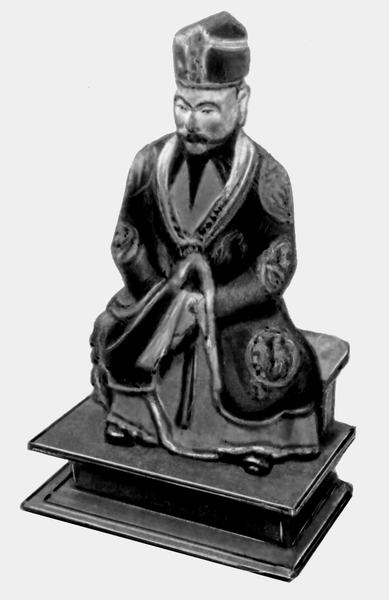
Древнекитайский врач Бянь Цяо (VI в. до н. э.).

Будда на троне с предстоящими. Стелла из Катры. Уттар-Прадеш. Начало II в. н. э.

Комплекс зданий Военно-медицинской академии со стороны Пироговской набережной. Санкт-Петербург.
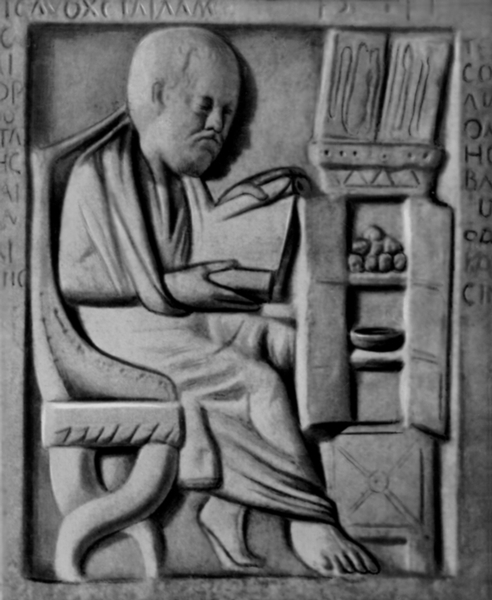
Древнеримский барельеф с изображением врача.

Лицевая сторона памятного «Альбома международного съезда врачей», 1897 г.

Препарат Рюйша в Анатомическом музее Военно-медицинской академии.

Алхимик. Ян Штин. Из собрания «Уоллеса в Лондоне».
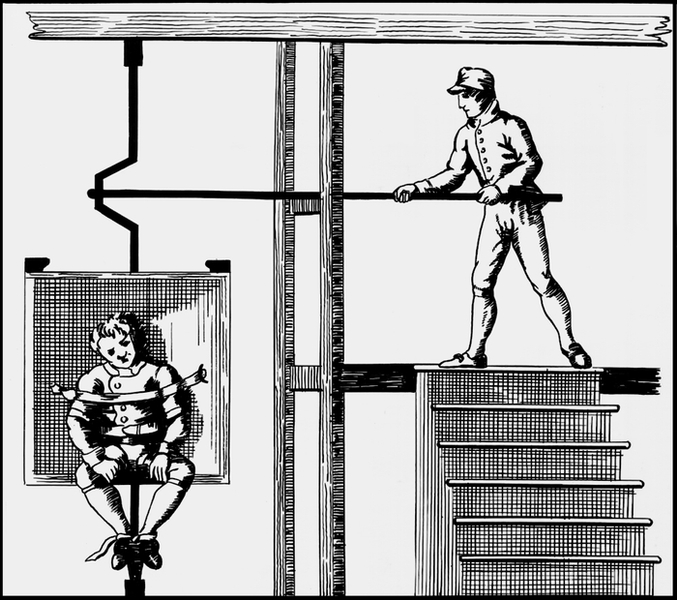
Методы «лечения» душевнобольного, применявшиеся до реформ в психиатрии Ф. Пинеля.
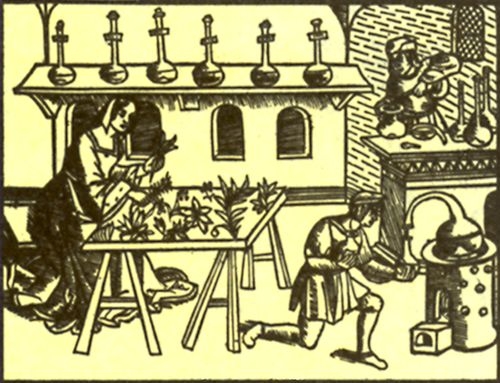
Приготовление в аптеке лекарства из целебных трав. Средневековая миниатюра. 13 в.

Ибн Сина, окруженный учениками. Средневековая арабская миниатюра.

Я.В. Виллис.

Консилиум врачей у постели больного. Средневековая миниатюра. XIV в.

Симург — вещая птица в иранской мифологии. Миниатюра конца XVI в.

Схематическое изображение головного и ножного предлежаний плода. Из рукописи De secretis mulierum Альберта Великого.
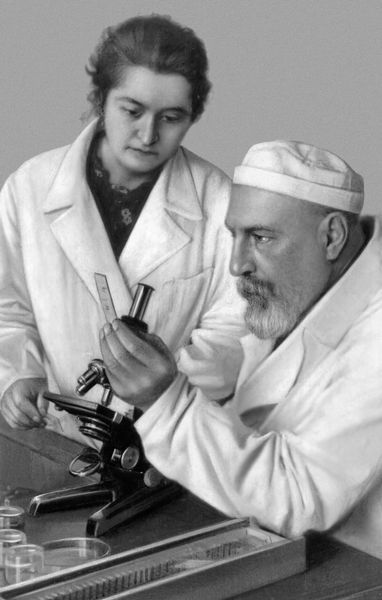
Академик В.П. Филатов в лаборатории.
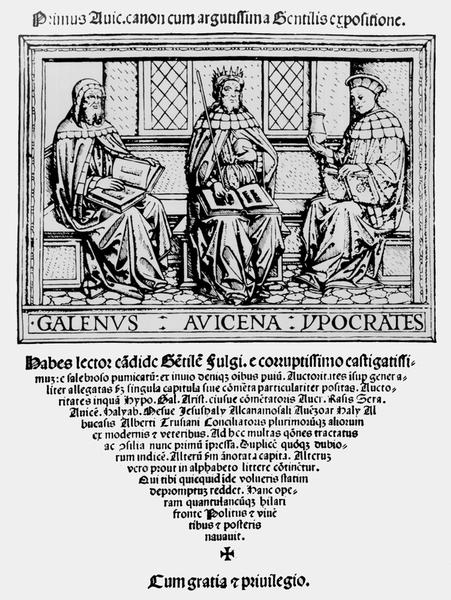
Страница из средневекового издания «Божественной комедии» А. Данте. На миниатюре изображены Гиппократ, Ибн Сина, Гален.
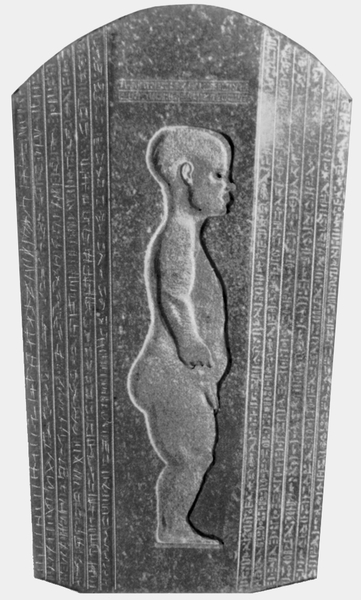
Древнеегипетский барельеф, изображающий больного ахондроплазией.
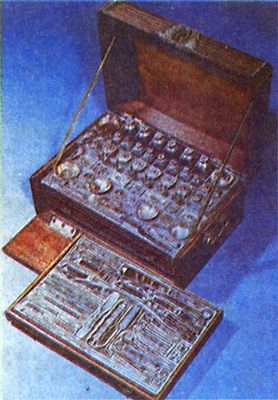
Походный набор врача.
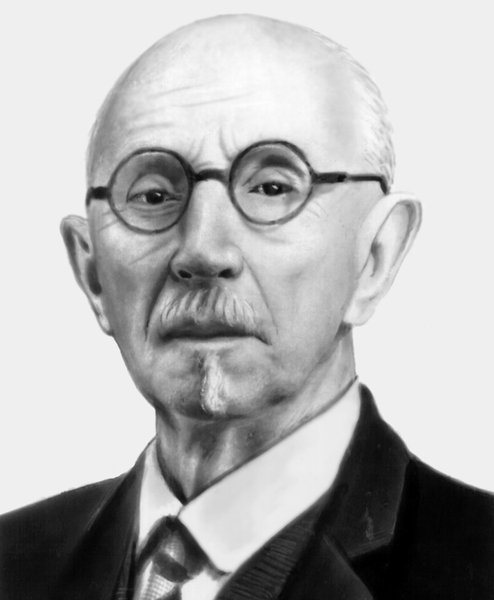
Н.Н. Петров.
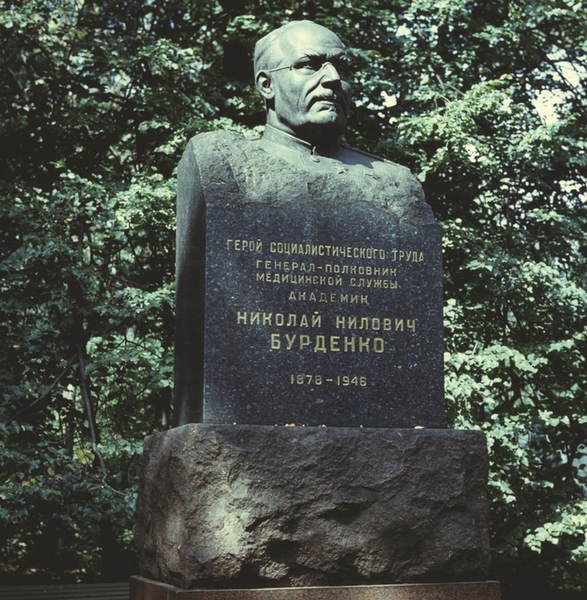
Памятник Н.Н. Бурденко в Москве.
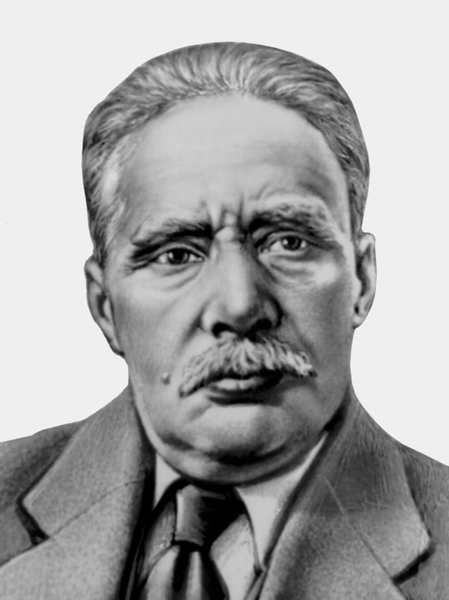
Е.С. Лондон
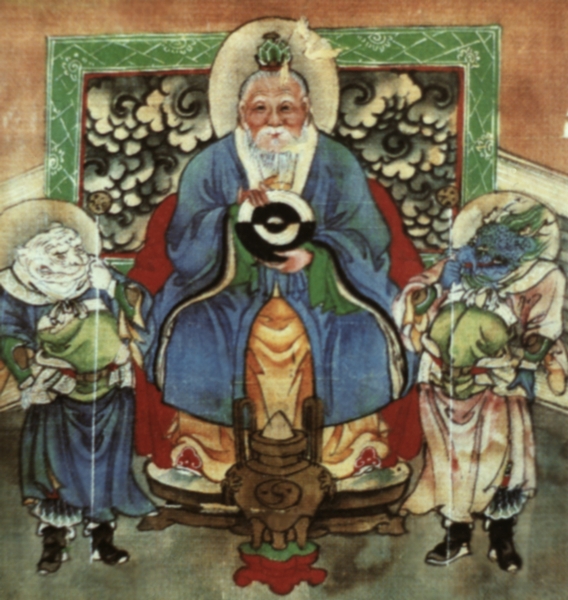
Лао-цзы — легендарный основатель даосизма в Китае — с символом тьмы и света (инь и ян) в руках. Китайская народная картина XIX в.

Аптекари. Оноре Домье.
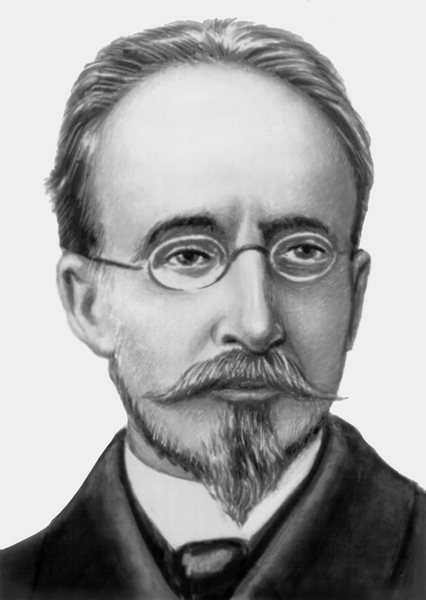
Г.Н. Габричевский.
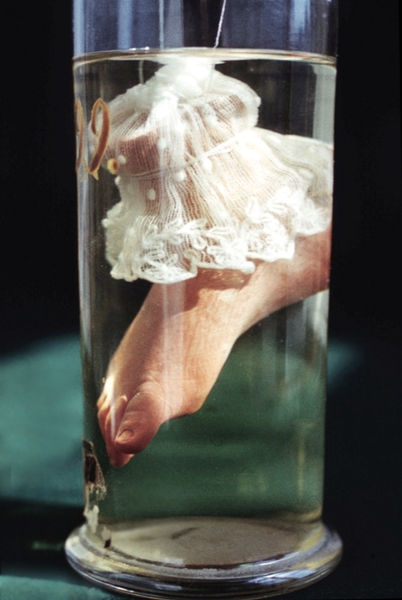
Препарат Рюйша в Анатомическом музее Военно-медицинской академии.
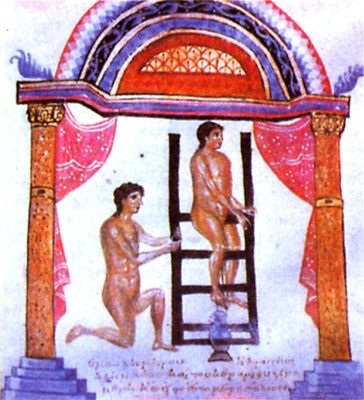
Процедура сбора мочи. Рисунок из «Сборника Гиппократа».

Памятная бронзовая медаль, посвященная В.Ф. Снегиреву.
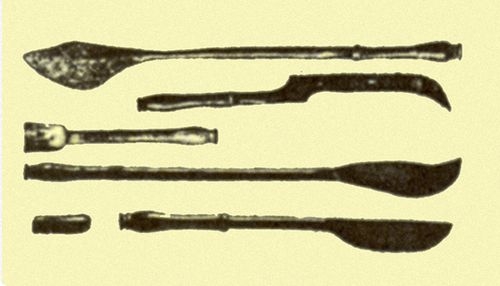
Хирургические инструменты, найденные при раскопках в окрестностях Ниневии.
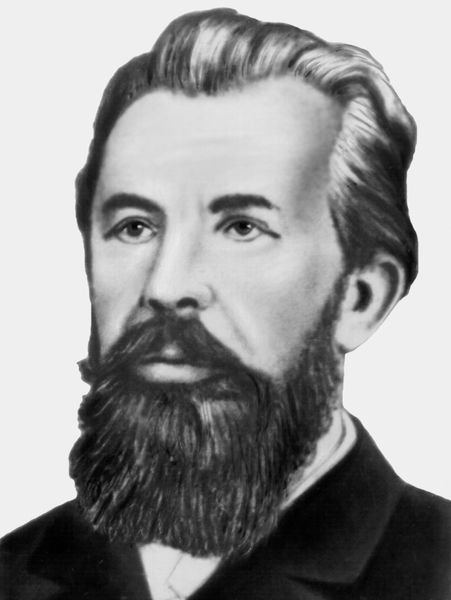
Н.В. Склифосовский.
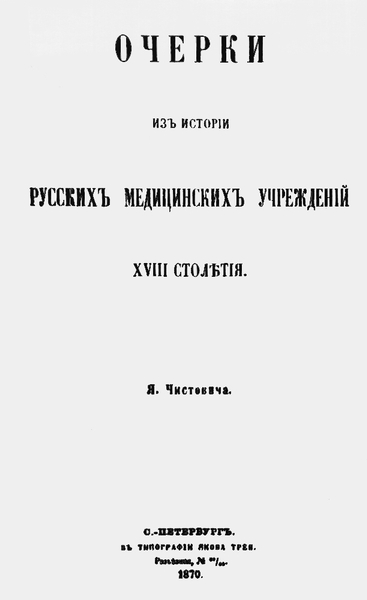
Титульный лист труда Я.А. Чистовича «Очерки из истории русских медицинских учреждений XVIII столетия». Санкт-Петербург, 1870.

«Подготовка к операции».

Бюст С.П. Федорова, находящийся в Военно-медицинской академии.
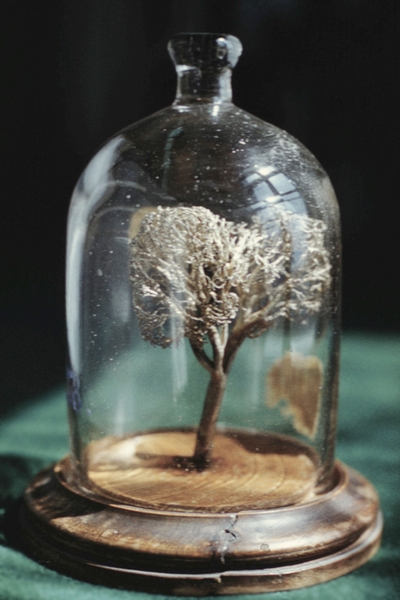
Препарат Либеркюна в Анатомическом музее Военно-медицинской академии.
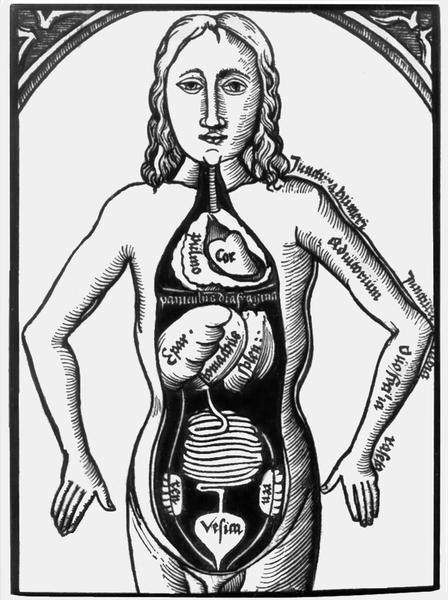
Строение внутренних органов. Рисунок из книги по анатомии для студентов, XVI в.

Больница Крестовоздвиженской общины сестер милосердия. Ныне больница им. Урицкого (г. Санкт-Петербург).
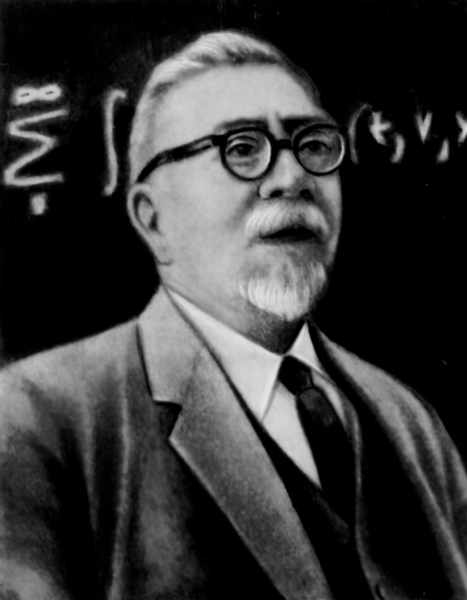
Норберт Винер.
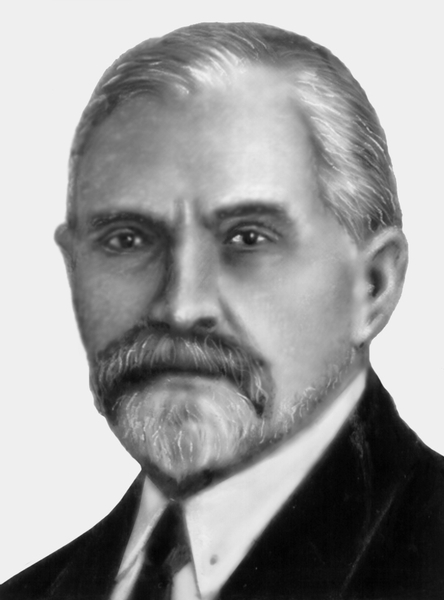
С.И. Спасокукоцкий.

Врачевание.
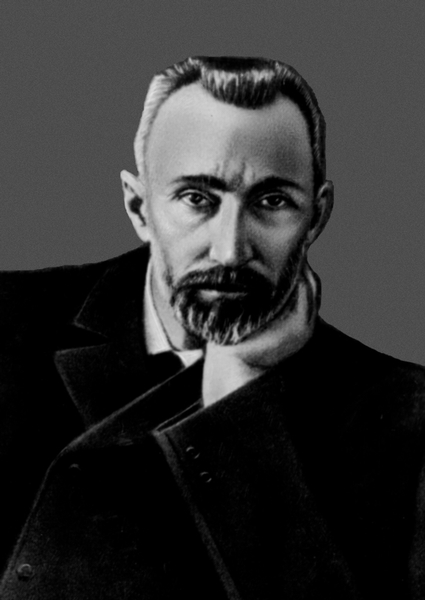
Пьер Кюри.

Амулет от болезней, найденный в районе Заславья.
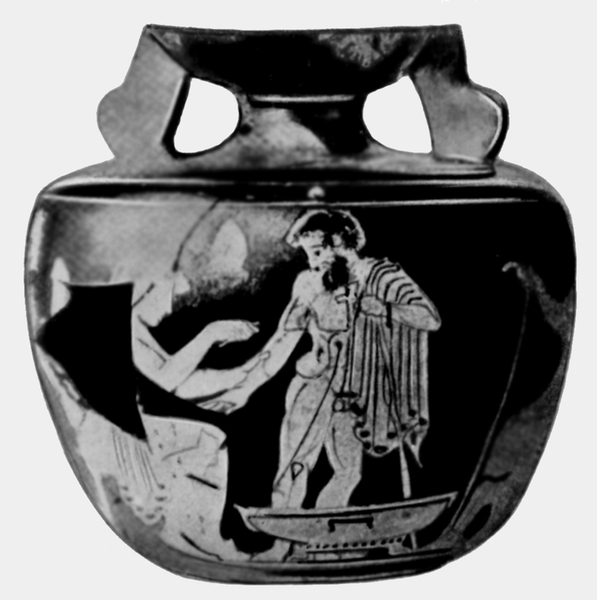
Древнегреческая ваза с изображением женщины, производящей кровопускание больному.
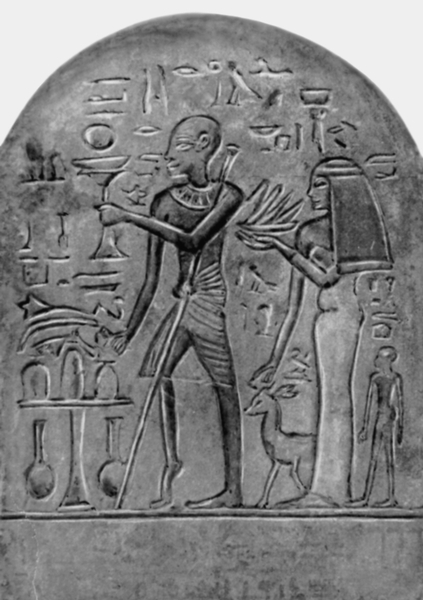
Древнеегипетский барельеф, изображающий больного и богиню Иштар.
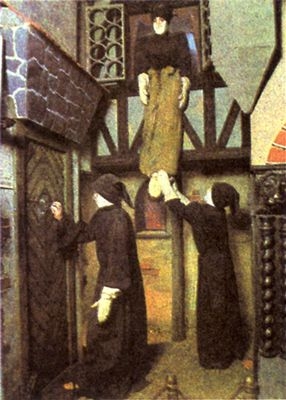
«Чума в городе».
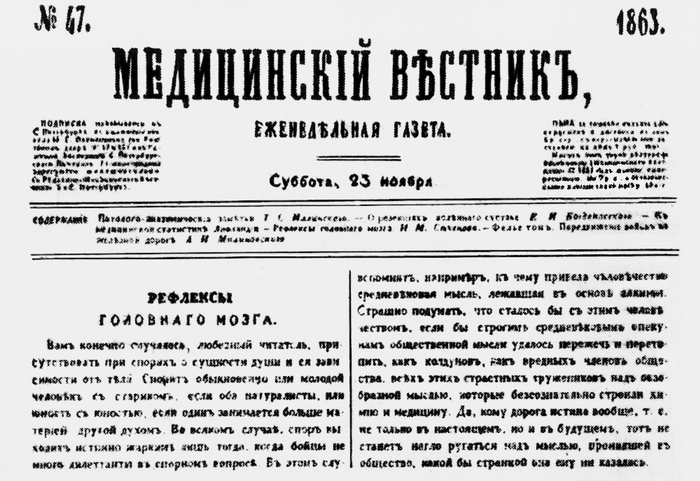
Титульный лист еженедельной газеты «Медицинский вестник» с опубликованной работой И.М. Сеченова «Рефлексы головного мозга», 1863.

Р. Вирхов в своем рабочем кабинете в институте патологии. Берлин.

Специалист. Пьетро Лонги. Академическая галерея. Венеция.
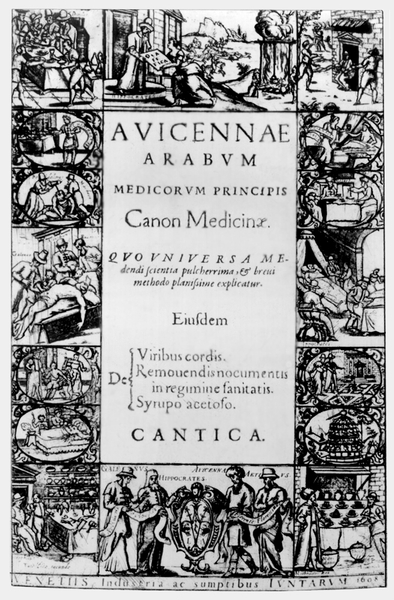
Титульный лист книги Авиценны Canon Medicinae. Венеция, 1608.

Альбрехт Галлер.
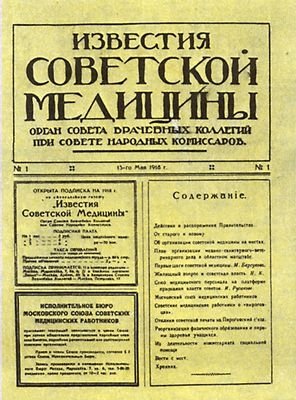
Первая страница первой советской медицинской газеты, 1918 г.
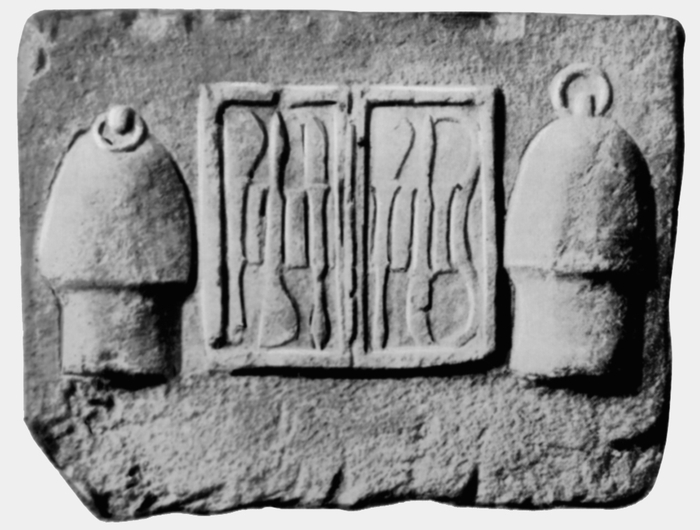
Древнегреческая глиняная табличка с изображением набора хирургических инструментов. Асклепейон в Афинах.

В.П. Филатов.

Бритье головы и трепанация черепа. Средневековая миниатюра.

Всесоюзный онкологический научный центр.
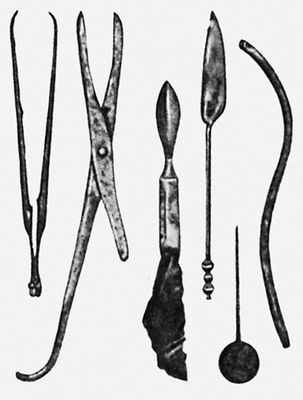
Набор древнегреческих хирургических инструментов времен Гиппократа.

Рис. 1. Анатомический рисунок Леонардо да Винчи — мышцы туловища и ноги.
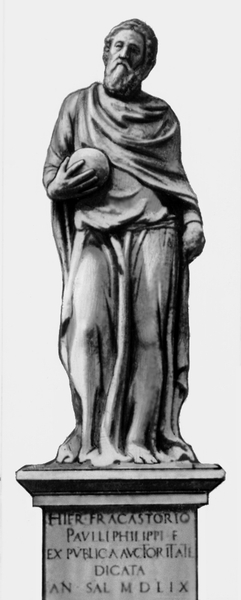
Памятник Дж. Фракасторо в Вероне, 1559 г.
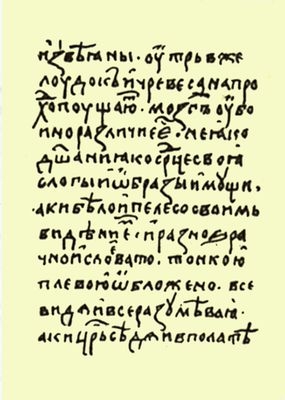
Страница из Палеи Толковой с описанием строения человеческого мозга.

В.Н. Тонков.
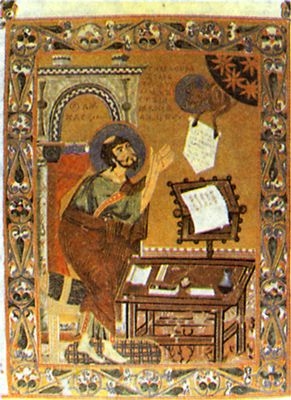
«Евангелист Лука». Миниатюра из «Остромирова евангелия».
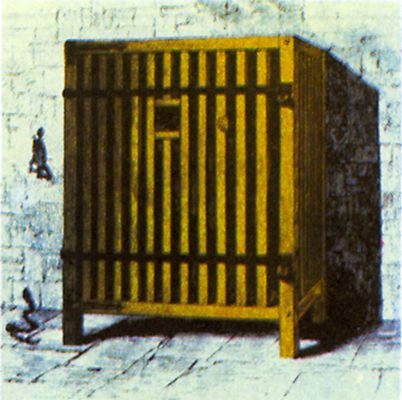
Клетка для содержания душевнобольного. Фотография из американского журнала 1889 г.

Хеттский свинцовый амулет в виде фигуры бога. 19—18 вв. до н. э.
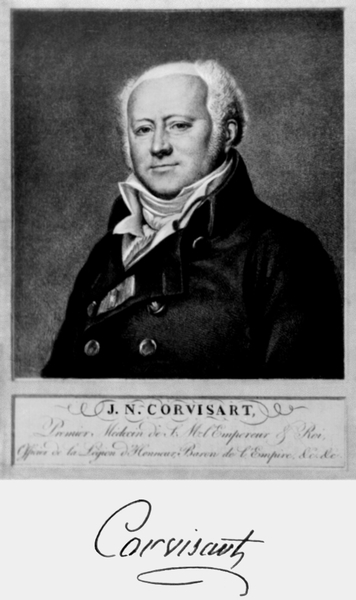
Жан Корвизар.

Ф. Пинель разрезает цепи, сковывающие душевнобольного.

Яньгуан няннян — богиня, предохраняющая детей от глазных болезней в Древнем Китае.

Рене Декарт.
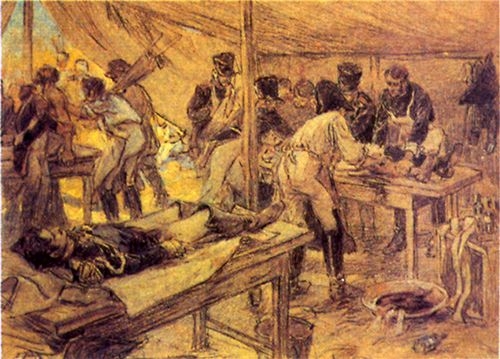
В санитарной палатке на Бородинском поле. Иллюстрация к «Войне и миру» Л.Н. Толстого. Художник Л. Апсит. 1912.

Мемориальный кабинет И.М. Сеченова.

Череп первобытного человека с трепанационным отверстием.

П.Ф. Здродовский.

Софийский собор в Киеве, где располагалась древнейшая на Руси медицинская библиотека.

Редкие издания, хранящиеся в библиотеке Военно-медицинской академии.
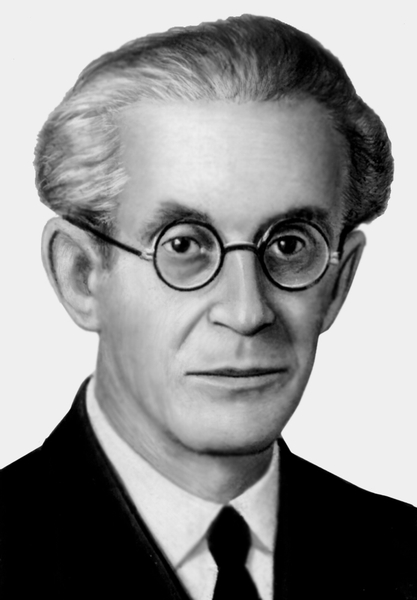
С.С. Брюхоненко.
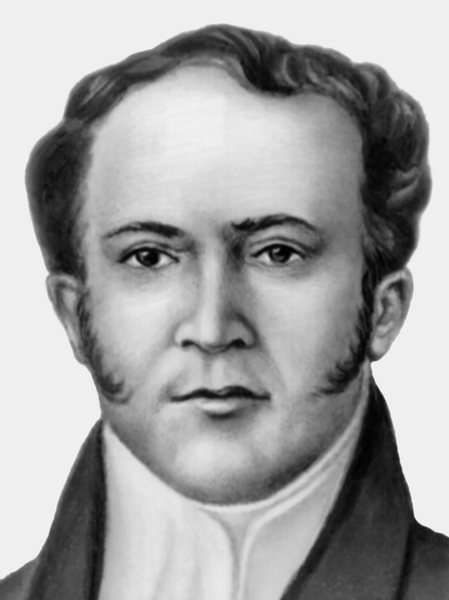
И.В. Буяльский.

Памятник А.Л. Мясникову перед зданием Центра профилактической медицины в Москве.

Собрание богов (слева направо: Гера, Гермес, Афина, Зевс, Ганимед, Гестия, Афродита, Арес). Роспись краснофигурного килика Ольтоса. Тарквиния. Около 511 г. до н. э.
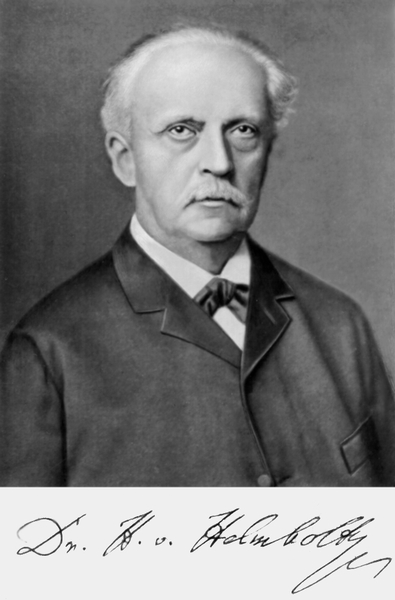
Герман Гельмгольц.
II
Медицина (лат. medicina врачебная наука, медицина)
система научных знаний и практической деятельности, целью которых является укрепление и сохранение здоровья, продление жизни людей, предупреждение и лечение болезней человека.
Значения в других словарях
- медицина — -ы, ж. Совокупность научных знаний о болезнях, их лечении и предупреждении. Экспериментальная медицина. [лат. medicina] Малый академический словарь
- МЕДИЦИНА — МЕДИЦИНА (от лат. medicina) — англ. medecine; нем. Medizin. Область научной и практической деятельности, направленная на сохранение и укрепление здоровья, распознавание, лечение и предупреждение болезней, продление жизни. см. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Социологический словарь
- медицина — Медици́н/а. Морфемно-орфографический словарь
- Медицина — I Медици́на (латинское medicina, от medicus — врачебный, лечебный, medeor — лечу, исцеляю) система научных знаний и практических мер, объединяемых целью распознавания, лечения и предупреждения болезней... Большая советская энциклопедия
- медицина — орф. медицина, -ы Орфографический словарь Лопатина
- медицина — МЕДИЦИНА (лат. medicina, от medicus — врачебный, лечебный, medeor — лечу), область науки и практич. деятельность, направленные на познание процессов... Ветеринарный энциклопедический словарь
- медицина — медицина , -ы Орфографический словарь. Одно Н или два?
- медицина — сущ., ж., употр. сравн. часто (нет) чего? медицины, чему? медицине, (вижу) что? медицину, чем? медициной, о чём? о медицине 1. Медицина — область научных знаний о болезнях, их лечении и профилактике. Практическая медицина. | Традиционная медицина. Толковый словарь Дмитриева
- МЕДИЦИНА — МЕДИЦИНА, комплекс научных дисциплин и практических методов, служащих для предотвращения, диагностирования и лечения болезней или ран. Научно-технический словарь
- медицина — Система научных знаний и практиче-ская деятельность, целью которых является сохранение и укрепление здоровья людей, предупреждение и лечение болезней. Биология. Современная энциклопедия
- медицина — МЕДИЦИНА -ы; ж. [лат. medicina] 1. Совокупность научных знаний о болезнях, их лечении и предупреждении. Экспериментальная, практическая м. Клиническая, космическая, судебная м. Заниматься медициной. Народная м. (лечение народными средствами). 2. Разг. Толковый словарь Кузнецова
- медицина — МЕДИЦИНА, ы, ж. Совокупность наук о здоровье и болезнях, о лечении и предупреждении болезней, а также практическая деятельность, направленная на сохранение и укрепление здоровья людей, предупреждение и лечение болезней. | прил. медицинский, ая, ое. Медицинская помощь. Толковый словарь Ожегова
- медицина — Медицины, мн. нет, ж. [латин. medicina]. Цикл наук о болезнях и их лечении. Экспериментальная медицина. Практическая медицина. [В 19 веке слово медицина употреблялось в более узком смысле, означая лечение внутренних болезней, терапию, и не включало в себя хирургию.] Большой словарь иностранных слов
- медицина — МЕДИЦ’ИНА, медицины, мн. нет, ·жен. (·лат. medicina). Цикл наук о болезнях и их лечении. Экспериментальная медицина. Практическая медицина. Доктор медицины. Толковый словарь Ушакова
- Медицина — От латинского слова medicari — назначать лечебное средство. Но М. заботится не только о восстановлении нарушенного здоровья, а также и о предупреждении расстройств. Полное определение М. с современной точки зрения:... Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона
- медицина — медицина ж. Совокупность наук и практическая деятельность, направленные на сохранение и укрепление здоровья людей, предупреждение и лечение болезней. Толковый словарь Ефремовой
- МЕДИЦИНА — "МЕДИЦИНА" — издательство, Москва. Основано в 1918. Научная и учебная литература по медицине, медицинской промышленности, медицинские журналы. МЕДИЦИНА (лат. Большой энциклопедический словарь
- медицина — медици́на впервые у Петра I; см. Смирнов 192. Через польск. mеdусуnа или непосредственно из лат. medicīna (ars) от medicus, mеdеоr "лечу, пользую". Этимологический словарь Макса Фасмера
- медицина — МЕДИЦИНА ж. лат. врачебство, врачебная наука или лекарское искусство, лекарство. Медицинский, врачебный, лекарский. Медик м. врач, лекарь. медиков, лично ему принадлежащий. Толковый словарь Даля
